Набрякшее небо мрачно давило на сад, поглотив все краски и свет. Ветер хлестал кроны деревьев, и с моря доносились гром и грохот. В Георгине тоже все бушевало. Буря, пьянящая и пугающая, привела ее в замешательство. Во весь дух она бежала наперекор ей. Яростно терла кулаком глаза, в которые набегали первые слезы.
– Ах Тонг! Ах Тонг!
Крик Георгины, пронзительный от страха, заставил Ах Тонга распрямиться.
Девочка бежала к нему через сад, спотыкалась и падала, опять вставала и бежала дальше. Даже издали Ах Тонгу было видно, какое волнение в ней бушует.
– Мисс Георгина!
Он бросил грабли в побуревшие цветы жасмина и побежал ей навстречу, так что она налетела на него, задыхаясь, с пылающими пятнами на щеках.
– Что такое случилось? – в тревоге спросил он и присел перед ней на корточки. – Что тебя так напугало? Ты не ушиблась? Или…
При мысли о том, что обычно умалчивалось, он запнулся.
Стены ограды вдоль Бич-роуд, с равными интервалами прерываемые то проходом, то решетчатой калиткой, были не очень высоки. Их хватало на то, чтобы оградить сады от моря, а в декабре, когда муссоны с северо-востока бушуют особенно сильно, часто не хватало и на это. И для негодяев они не представляли непреодолимой преграды, тем более что сады соседних участков были отделены друг от друга лишь живой изгородью или полосой деревьев.
А Сингапур был еще молод, намного моложе Ах Тонга, ему не было еще и двадцати пяти лет.
Растущие, конечно, но несовершенные ограды европейских домов, возведенные сотнями арестантов из Индии, для которых лишь в прошлом году было построено здание тюрьмы, и непрочный, ненадежный лоск европейского образа жизни. Среди пестрых портовых складов, забитых товарами со всего света, переулков Ниу Це Шуи, беспокойного китайского квартала по ту сторону реки и малайских хижин из дерева и пальмовых листьев, Сингапур был еще сыроватым городом, неготовым. Как все места, где деньги можно было грести лопатой, он был магнитом для искателей счастья, как и для всякого сброда, этакий шумный восточный базар посреди диких тропиков.
Малайцы и буги, по слухам, то и дело бегали со своими кинжалами в приступах безумия амок. Тигры водились в джунглях в сердце острова и при случае отваживались выходить на побережье, а змеи и скорпионы кофейной расцветки прятались среди травы и листьев. Банды китайских Триад численностью порой до двухсот человек, зачернив лица, врывались ночами в дома, убивая и грабя. Темная угроза, против которой были бессильны как крохотный гарнизон индийских сипаев, так и горстка добровольных дружинников, которые в случае опасности предпочитали спасаться сами. И окрестные воды кишели местными пиратами, жаждущими золота, рабов, а иногда и просто крови.
Ах Тонг испуганно сглотнул, так что кадык дернулся. Он осторожно взял Георгину за плечи и притянул к себе.
– Или… или тебя кто-нибудь обидел?
Георгина отрицательно мотнула головой, но вцепилась в рукава рубахи Ах Тонга.
– Что там опять за крик? – донеслось от дома. – С самого утра!
Ах Тонг подавил вздох и оглянулся. На веранде в наступательной позе – уперев руки в бока – стояла Семпака. Ее – надо признать, миловидное – округлое лицо золотисто-мускатного цвета гнев исказил в уродливую гримасу, темные глаза полыхали недобрым.
– Ничего страшного, дорогая! Мисс Георгина всего лишь испугалась, я сейчас все улажу.
Мина Семпаки сложилась в презрение. Казалось, она готова была изрыгнуть яд и желчь, но удовольствовалась тем, что недовольно фыркнула и вернулась в дом. Ах Тонг опять занялся Георгиной.
– Ну-ну, Айю, ничего, ничего. – Он в растерянности гладил ее по голове. – Ты не хочешь мне рассказать, что случилось?
Мальчик, Ах Тонг! Мальчик, который со вчерашнего дня прячется в павильоне. Рахарио. Вчера он был еще вполне живой! А сегодня… сегодня…
Георгину душили слова, они теснились в горле, и рот ее открылся сам собой.
Никто не должен знать, что я здесь. Ты обещаешь мне, что никому не скажешь?
Она сцепила зубы, разрываясь между необходимостью позвать на помощь кого-нибудь взрослого и своим обещанием, данным Рахарио.
– Лечебные… травы, – выдавила она. – Ты разбираешься в лечебных травах? – Она хватала ртом воздух. – Которые от жара?
Ах Тонг наморщил лоб:
– Немного разбираюсь. – Он склонил голову набок. Девочка была бледна, и казалось, ее вот-вот вырвет ему под ноги. – Тебе нехорошо? Ты захворала?
Георгина с трудом выдерживала тревожный взгляд Ах Тонга, проникающий ей прямо под кожу, и быстро замотала головой.
Лицо Ах Тонга просветлело:
– А, это у тебя… для игры?
Георгина потупилась и кивнула.
– Я сейчас посмотрю, ладно? – Ах Тонг встал. – Средство от жара, ты говоришь?
Георгина снова кивнула.
– Но… но оно должно быть правдашним, Ах Тонг! – крикнула она вдогонку его худой фигуре, удаляющейся широкими шагами.
Ах Тонг полуобернулся, с улыбкой кивнул и обозначил поклон.
– Разумеется. Честное слово, мисс Георгина!
Георгина смотрела ему вслед с колебанием, не побежать ли за ним… Но Семпака ей строго-настрого запретила даже приближаться к жилищу прислуги. Ее колени начали дрожать и взяли тем самым решение на себя. Трясясь и обхватив себя руками, она приросла к месту и мерзла в туманных испарениях утра.
Прижав к себе коричневый флакончик с драгоценным порошком, Георгина примчалась в павильон и неверными пальцами нашарила в шкафчике стакан и потускневшую ложку.
– Сейчас полегчает, – бормотала она, метнувшись в соседнюю комнату. Больше для того, чтобы успокоить себя, потому что Рахарио лежал все так же неподвижно, каким она застала его утром. Лишь его слабое прерывистое дыхание, дрожь, что изредка пробегала по телу, и трепет век выдавали, что он еще жив.
Она тщательно отмерила порошок, размешала его в стакане с дождевой водой, приподняла голову Рахарио и вливала ему лекарство глоток за глотком. Он стал значительно тяжелее, чем был вчера, и горел в лихорадке, так что у нее сдавило грудь от напряжения. Она неловко опустила его голову и скользнула с края матраца.
– Ты выздоровеешь, – шептала она, присев на полу, обмакивая тряпку в дождевую воду и отжимая ее. Обтирала его залитое потом лицо. – Слышишь? Только не умирай.
Она вздрогнула: влажные пальца сомкнулась на ее кисти. Это была жилистая сильная рука в грубых мозолях, под края перламутрово-розовых ногтей набилась грязь. Мужская рука, в которой ее детские пальчики почти совсем исчезли.
– Может быть… может, мне позвать кого-нибудь на помощь?
Рахарио обозначил отрицание.
– Но мне одной не справиться, – жалобно воскликнула она.
Груз, свалившийся на нее с появлением этого чужого раненого мальчишки, будто выброшенного морем на берег, разом показался ей слишком тяжелым. Непосильным для ее неполных десяти лет.
Он сжал ее ладонь, и его брови шевельнулись, как будто он хотел ей возразить.
Георгина сникла, прижалась щекой к матрацу. Простыня пахла плесенью. Ее лицо было так близко к лицу Рахарио, что она видела капельки пота на его коже. Крошечный шрам у крыла носа, еще один под дугой брови и намек на первые темные волоски, пробивающиеся вокруг рта.
– Ты выздоровеешь, – прошептала она в его тяжелое дыхание.
Рахарио слабо кивнул, уголок его потрескавшихся губ едва заметно дрогнул.
Его пальцы сплелись с ее пальцами, все еще сжимавшими мокрую тряпицу, и сжались, словно скрепляя некий немой договор.
Георгина смотрела в темноту.
Сердце билось в груди, то и дело больно спотыкаясь, и потом снова настукивало молотком. Она обливалась потом, он увлажнял ей ночную рубашку и простыню. Ей было тошно, о сне нечего было и думать. Заснуть ей не давал страх. Что будет утром? Что ожидает ее в павильоне? То ли Рахарио станет лучше, то ли он ночью умрет от этой своей лихорадки.
Днем голоса мужчин и женщин придавали дому видимость оживления, их шаги, их мелкие движения и действия, их смех, возня – трудолюбивое копошение, напоминающее суету насекомых в большом муравейнике. А ночью воцарялась паралитическая тишь, которая наваливалась на дом как душитель. Словно душа Л’Эспуара угасла с тех пор, как не стало здесь мамы.
Тишина, которая была для Георгины тем мучительнее, что Семпака больше не спала в ее комнате.
В большинстве случаев Георгина шла на разные ухищрения ради того, чтобы избежать присутствия подле себя Семпаки, которая и раньше-то не отличалась сердечностью, а после смерти мамы прямо-таки казнила ее своим презрением и отвращением. Но в такие ночи, как эта, она была бы рада чувствовать поблизости даже сонное тяжелое дыхание Семпаки.
Ее непрерывно терзали мысли – а вдруг она сделала что-то неправильно, когда обрабатывала раны Рахарио, и от этого ему теперь так плохо. И правдашним ли был тот порошок, который дал ей Ах Тонг, и не ошиблась ли она в дозировке. А лечебный настой арники, которым мама смачивала раньше ее сбитые локти и колени, не выдохся ли за это время и не мог ли только навредить Рахарио. Эти исполненные опасений вопросы и сомнения неотступно терзали ее.
Ей было впору заплакать; она тосковала по кому-нибудь, кто бы обнял ее и прижал к себе. Кому бы она могла все рассказать и кто бы ее утешил и пообещал, что все будет хорошо. Кто-нибудь такой же близкий, как мама.
Какой-то шум заставил ее прислушаться, и Георгина затаила дыхание. Походило на копыта лошади и колеса повозки.
Папа! Недолго думая она отодвинула москитную сетку, вскочила с постели и выбежала в коридор. Папа дома!
Наверху у лестницы она остановилась и прислушалась. Под снова удаляющийся и наконец совсем смолкший цокот копыт и шорох повозки она расслышала твердые шаги и затем голоса. Низкий, сухой – папин – и высокий певучий – боя Один, который вечерами всегда дожидался прихода папы, чтобы забрать у него шляпу и сюртук и подать ему тапочки и что-нибудь выпить, как бы ни было поздно. Когда внизу стало тихо, Георгина выждала еще несколько ударов сердца, полутревожных, полунадеющихся, прежде чем спуститься по ступеням из полированного дерева на мягко освещенный нижний этаж.
Она прошлепала босиком по прохладному полу холла и прижалась к косяку двери в кабинет.
Лампа на письменном столе вырезала из темноты желтый круг. Сумеречный свет и глубокие тени тянулись над стопкой бумаг и писем, оставляли отблески на пустом стакане и еще резче обозначали и без того жесткие черты ее отца. Выдающийся вперед нос, доминирующий в его профиле, и неуступчивый подбородок. Рот, который в последние несколько лет сжался в тонкую полоску. Хотя первый серебряный блеск седины пронизывал его густые волосы, мощные брови были по-прежнему угольно-черными и затеняли его глаза – такие же синие, как у Георгины, только светлее и проницательнее.
– Папа, – тихо окликнула она, и этот зов больше походил на писк.
Он поднял голову от письма, которое держал в руках.
– Георги.
Может, виновато освещение, но Георгине почудилось, что в его глазах вспыхнул свет, но тут же погас. Его брови, всегда напоминавшие Георгине мохнатых гусениц, сошлись на переносице.
– Почему ты не в постели?
Она подняла плечо и теребила подол ночной рубашки:
– Я не могу заснуть. – Одна ее ступня ощупывала порог, но перешагнуть через него она не смела. – Можно к тебе?
В ней зародилась надежда, когда ей показалось, что лицо отца смягчилось, но надежда тут же рухнула: его мина снова посуровела.
– Иди к себе в постель. Уже поздно, – ответил он и снова погрузился в письмо. Голос у него был усталый, просевший. – Спокойной ночи.
– Спокойной, – прошептала Георгина со сдавленным горлом и горьким привкусом на языке.
Поникнув, она побрела в холл, пытаясь не думать о том отце, который был у нее когда-то. Отец, который много смеялся, шутил с ней и умел рассказывать интересные истории. Который поднимал ее высоко в воздух, кружил и всякий раз надежно ловил в объятия, прижимал к себе и целовал в макушку. На чьих коленях она удобно устраивалась, когда вечером все сидели на веранде в свете лампы, одной рукой папа обнимал маму за плечи, и их тихие голоса и мягкая рука мамы, гладившая ее по волосам, постепенно погружали ее в блаженную дрему. И она не понимала, почему она не могла ничего спасти и перенести через ту пропасть, которая разверзлась после маминой смерти, и папа с тех пор стал как пустая раковина.
Посреди холла она остановилась и потерла глаза. Их нестерпимо щипало. Ей так захотелось оказаться рядом с Рахарио, что она испытывала почти боль. Но она еще никогда не была в саду ночью, когда во тьме оживала его дикая сторона. Населенный неугомонными тенями и наполненный мириадами голосов, которые шелестели и хихикали, шептали и реяли. Так же, как море по ночам неукротимо пенилось, накатывая валы и издавая топот, как эхо своих глубин.

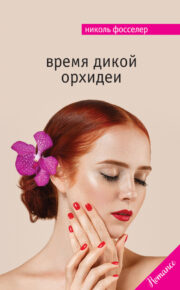
"Время дикой орхидеи" отзывы
Отзывы читателей о книге "Время дикой орхидеи". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Время дикой орхидеи" друзьям в соцсетях.