— Ну, она обладает неким тюремным шармом, — говорит папа.
— Как будто бы «до» и «после» в передаче про домашний декор. — Мама показывает на половину Кали, где каждый квадратный сантиметр стены закрыт постерами, репродукциями и фотографиями. — То, что у тебя, — это «до». — Как будто я сама не поняла.
Мы отправляемся в одну из мастерских, это какая-то безумно скучная лекция об изменениях в оборудовании учебных кабинетов. Мама даже что-то записывает. Папа отмечает все мелочи, которые он помнит со времен своего обучения, и что изменилось. То же самое он делал и в прошлом году, когда мы приезжали сюда в ознакомительных целях; они с мамой так радовались тому, что я буду тут учиться. Вроде как творили свое наследие. Тогда-то еще и я радовалась.
После лекции папа идет на встречу с другими родителями, сдавшими детям колледж по наследству, а мама — пить кофе с мамой Кали. Кажется, они отлично ладят. Либо Кали не сказала своей матери, какая я неудачница, либо она помалкивает из приличия.
Перед «Президентским обедом» все четыре представительницы «легендарной четверки» со своими предками встречаются в наших апартаментах. Они представляются и кудахчут о том, какие у нас крохотные комнатки, восхищаются тем, что мы сделали со своей малюсенькой гостиной, и на память фотографируют новую табличку: «Встреча великолепной четверки и великолепной восьмерки», которую сделали остальные, без моего участия. Потом мы все вместе выходим и осматриваем кампус, проделывая огромный путь ради каких-то старых, более представительных зданий, по кирпичу которых ползет уже краснеющий плющ. И все так хорошо смотрятся рядом в фланелевых юбках, кашемировых свитерах, коротких дубленочках и высоких сапогах, разбрасывая ногами осеннюю листву. Мы действительно похожи на «Счастливых Студентов», фотографии которых печатают в каталогах.
Обед изыскан и скучен, резиновая курятина и резиновые беседы, проходящие в холодном огромном зале с эхом. И только после обеда миф о великолепной четверке начинает рассыпаться. Потихоньку семьи Кендры, Дженн и Кали отделяются. Скорее всего, обсуждают Рождество, День благодарения и весенние каникулы, свои возможности и все такое. Мама смотрит на них, но ничего не говорит.
Они с папой возвращаются в свой отель, готовятся к ужину. Мама сообщает, что мы идем в хороший ресторан, и рекомендует мне надеть черно-красное платье. А также велит вымыть волосы, а то они уже сальные.
Когда они приходят за мной, возникает неловкий момент, потому что мы сталкиваемся с остальными, и выясняется, что они все вместе идут в какой-то известный ресторан в центре Бостона, где подают морепродукты. Мои мама с папой смотрят на родителей остальной «легендарной четверки» с некоторым напряжением. Соседки как-то покраснели и начали вдруг демонстрировать интерес к нашему серому ковролину. Наконец отец Дженн делает нам запоздалое приглашение пойти ужинать с ними.
— Уверен, что мы сможем потесниться, и все разместимся.
— Нет необходимости, — отвечает мама крайне надменным тоном. — Мы зарезервировали столик в «Преццо».
— Ого! Как вам это удалось? — интересуется Линн. — Мы тоже пытались, но там сказали, что места есть лишь на следующий месяц. — Как говорит мама, «Преццо» — самый крутой ресторан в городе.
Мама таинственно улыбается. Она им не скажет, но я знаю от папы, что у одного из ребят, с которыми он играет в гольф, есть друг в бостонской больнице, а у того есть связи. Мама так этому радовалась, но теперь победа неполноценная.
— Ну, наслаждайтесь своими морскими гадами, — говорит она. Только мы с папой улавливаем снисходительность в ее тоне.
Ужин просто мучителен. Я вижу, что даже просто сидеть в этом дышащем жеманством ресторане в окружении бостонской элиты маме непросто, и папе, соответственно, тоже, они чувствуют себя отверженными. Хотя это не так. На самом деле отвергаю их лишь я.
Меня расспрашивают о занятиях, и я покорно рассказываю о химии, физике и биологии, а также китайском, не упоминая о том, как трудно на лекциях не заснуть, даже когда ляжешь очень рано, как и о том, насколько ужасно идут дела по тем предметам, по которым я отлично успевала в школе. Говоришь, не говоришь — это так утомляет, что мне хочется лечь лицом в тарелку с салатом за тринадцать баксов.
Когда нам приносят закуски, мама заказывает бокал «Шардонэ», а папа — «Шираз». Я стараюсь не смотреть на то, как переливаются цвета вина в свете свечей. Даже от этого больно. Я опускаю глаза в тарелку с равиоли. Пахнет приятно, но есть не хочется.
— Ты не заболела? — спрашивает мама.
И на крошечную долю секунды я задумываюсь, что было бы, если бы я сказала им правду. Учеба совершенно не соответствует моим ожиданиям, а я сама не похожа на девчонок из каталогов. Не «Счастливая Студентка». Я вообще не знаю, кто я. Или знаю, но просто больше не хочу ею быть.
Но это не вариант. Мама расстроится и будет разочарована, словно мое несчастье оскорбит ее лично как родителя. И она будет давить на чувство вины, на то, как мне повезло. Я же в колледже! А ей не посчастливилось приобрести такой опыт. Именно поэтому, пока я училась в последних классах школы, она вела себя как генерал на войне, продумывая стратегию моего дополнительного обучения, наняла мне репетиторов по тем предметам, в которых я была не очень, записала в группу подготовки к выпускным экзаменам.
— Да просто устала, — отвечаю я. По крайней мере, это не ложь.
— Ты, наверное, слишком много сидишь в библиотеке, — вставляет свое замечание и папа. — Ты на солнце достаточно времени проводишь? От этого зависит суточный ритм.
Я качаю головой. Это тоже правда.
— А бегаешь? Тут хорошие дорожки. И от реки недалеко.
По-моему, последний раз мы с ним выходили на пробежку вместе — за пару дней до той моей поездки.
— Завтра с утра сходим. Перед завтраком. Сбросить сегодняшний ужин. Прокачаем твои легкие.
Я чувствую полное измождение от одной мысли об этом, но он меня даже не спрашивает, он изначально рассчитывает на то, что я соглашусь, как и всегда, все планы строятся до того, как я с ними соглашусь.
На следующее утро остальные девчонки сидят в гостиной и пьют кофе, весело обсуждая обед, в ходе которого возник некий инцидент с симпатичным официантом и молоточком для разделывания омара, и событие это уже возведено в ранг мифов под кодовым названием «Красавчик с молотом». Они ошарашенно смотрят на меня, когда я предстаю перед ними в спортивных штанах и флисовой толстовке и принимаюсь искать кроссовки. У нас суперновомодный спортзал, без которого Кендра с Кали просто жить не могут, Дженн они тоже таскают с собой, а моя нога туда еще не ступала.
Я ожидала только папу, но с ним пришла и мама — в черных шерстяных штанах и кашемировой пелерине, и очень оживленная.
— Я думала, что мы за завтраком встретимся, — говорю я.
— Я просто хотела посидеть у тебя. Так мне будет проще воображать, где ты, когда меня нет рядом, — она поворачивается к Кали. — Если ты не против, — говорит она так вежливо, что Кали, наверное, никогда ее стервозности не уловит.
— Мне кажется, это очень мило, — отвечает она.
— Эллисон, ты готова? — спрашивает папа.
— Почти. Не могу кроссовки найти.
Мама смотрит на меня так, будто я теперь все постоянно теряю.
— Где ты их видела в последний раз? — говорит папа. — Представь себе это место. Так надо искать то, что потерял. — Стандартный совет, но он, как правило, работает. Мне вспоминается, что мои кроссовки все еще лежат нераспакованные в чемодане под кроватью — именно так оно и есть.
Мы спускаемся по лестнице, отец символически тянется.
— Посмотрим-ка, помню ли я еще, как это делается, — шутит он. Папа сам бегать особо не любит, но всем своим пациентам постоянно говорит, что надо заниматься, поэтому старается и сам делать то, что проповедует.
Мы бежим по дорожке, ведущей к реке. Сегодня настоящий осенний день, ясный и свежий, в воздухе уже появилась колкость зимнего мороза. Мне тоже бегать не нравится, особенно поначалу, но, как правило, минут через десять что-то переключается, мозг отрубается, и я забываю, чем вообще занята. Но сегодня, как только я начинаю забываться, мысли переключаются на то, как мы бежали в тот раз, это была лучшая пробежка в моей жизни, моя жизнь тогда зависела от бега. Ноги превращаются в гнилые деревья, яркие осенние краски рассеиваются, и все становится серым.
Километра через полтора я останавливаюсь. Оправдываюсь, что ногу свело. Я бы предпочла вернуться, но отец говорит, что хочет добежать до центра и посмотреть, что изменилось там, так что приходится подчиниться. Мы заходим в кафе, чтобы выпить капучино, папа опять спрашивает про учебу и начинает ностальгировать по счастливым денькам с органической химией. Потом рассказывает, как много было дел и что маме сейчас трудно, и мне надо бы с ней полегче.
— Она разве не собирается снова выходить на работу? — спрашиваю я.
Папа смотрит на часы.
— Пора возвращаться, — говорит он.
Мы расстаемся возле общаги, я иду переодеться к завтраку. Зайдя в свою комнату, я сразу понимаю, что что-то не так. Я слышу тиканье. Оглядываюсь и на секунду теряю ориентацию, потому что это больше не моя комната в общаге, а моя комната дома. Мама отрыла в шкафу постеры и повесила их точно так, как было у нас. Переставила фотки в зеркальном отражении того, как они стояли там. Заправила кровать и завалила ее горой подушечек, а я ей четко говорила, что не хочу брать подушки, потому что терпеть их не могу. Их каждый день надо снимать, а потом укладывать обратно. Сейчас на кровати аккуратными стопочками лежит одежда — так же она ее раскладывала за меня, когда я была в четвертом классе.
А на подоконниках и полках расставлена вся моя коллекция будильников. Все заведены и тикают.
Мама, которая как раз отрывала бирки со штанов, которые я даже не примерила, поворачивается ко мне.
— Ты мне вчера показалась такой мрачной. Я решила, что если сделать тут все как дома, ты взбодришься. Ведь так куда живее, — объявляет она.
Я пытаюсь возразить, хотя толком не понимаю, чему возражать-то.
— Я поговорила с Кали. Она считает, что тиканье успокаивает. Как белый шум.
А меня это вовсе не успокаивает. Мне кажется, что это тиканье тысяч бомб, готовых взорваться.
Шестнадцать
Ноябрь
Нью-Йорк
Последний раз я видела Мелани с выцветающей розовой прядью в белых локонах, в микроуниформе из «Топшопа» и сандалиях на головокружительно высокой платформе, которые она отхватила на сезонной распродаже в универмаге «Мэйсис». Так что когда она кинулась ко мне на людной улице китайского квартала в Нью-Йорке, как только я вышла из автобуса, я ее едва узнала. Розовой пряди не стало, она выкрасила волосы в темно-коричневый цвет с красноватым отливом. На лбу строгая челка, а остальные волосы забраны в узел, закрепленный парой палочек. На ней такое чудное стильное цветастое платье и сбитые ковбойские ботинки плюс бабушкины очки в форме кошачьих глаз. На губах кроваво-красная помада. Выглядит она потрясно, хотя и совсем не похожа на мою Мелани.
Но когда она меня обнимает, я чувствую, что пахнет она еще как прежде: кондиционером для волос и детской присыпкой.
— Боже, как ты отощала, — говорит она. — На первом курсе все толстеют, а не наоборот.
— Ты вообще пробовала еду в столовке?
— Ага. Привет, мороженое, выбирай любое и ешь сколько хочешь. Ради одного этого стоило платить за обучение!
Я отстраняюсь, снова осматриваю подругу. Все в ней другое. Включая очки.
— Тебе прописали?
— Они не настоящие. Посмотри, стекол же нет, — и она тычет в глаза через оправу. — Это часть моего образа библиотекарши в стиле панк-рок. — Мелани снимает очки и распускает волосы. И смеется.
— И больше не блондинка.
— Хочу, чтобы меня воспринимали серьезно, — подруга снова надевает очки и хватается за ручку моего чемодана. — Ну как там твой почти-Бостон?
Когда я выбрала колледж, Мелани прикалывалась над тем, что он находится в семи километрах от Бостона, а мы выросли в городке в тридцати километрах от Филадельфии. Она говорила, что я приближаюсь к большому городу по спирали. А сама нырнула в него с головой — ее колледж прямо в центре, на Манхэттене.
— Почти хорошо, — отвечаю я. — А как Нью-Йорк?
— Лучше, чем хорошо! Столько всего! Например, сегодня у нас есть следующие варианты: вечеринка в общаге, приличный клуб от восемнадцати и старше на Лафайет, а еще подруга приглашает нас в лофт в Гринпойнте, на вечеринку, там будет одна классная группа. Или можно попробовать взять билеты на сегодняшнее Бродвей-шоу на Таймс-сквер.
— Мне все равно. Я приехала просто с тобой повидаться.
Сказав это, я ощущаю едва заметный укол. Хотя формально это правда, я приехала к подруге, но это не единственная причина. Я все равно увижусь с ней через несколько дней дома, на Дне благодарения, но родители, когда заказывали билеты, сказали, что мне придется ехать на поезде, потому что перед праздниками лететь самолетом слишком ненадежно и дорого.

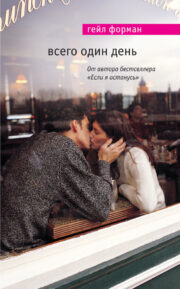
"Всего один день" отзывы
Отзывы читателей о книге "Всего один день". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Всего один день" друзьям в соцсетях.