— Я беру в «Гримальдиз». Нужно восемнадцать французских багетов и шесть буханок «Урожая». И парочку вчерашних бриошей. Запомнила?
— Кажется, да.
— «Кажется» на хлеб не намажешь.
— Восемнадцать багетов, шесть буханок «Урожая», парочку вчерашних бриошей.
— И смотри, чтобы бриоши были черствыми. Из свежего хлеба пудинг не сделаешь. Спроси там Йонаса. Скажи, что заказ для Бэбс, и чтобы за бриоши вообще не брал, а с остального скинул двадцать процентов, потому что его поганый разносчик опять не появился. И смотри, чтобы на закваске ничего не было. Ненавижу это дерьмо.
Она достает наличность из старинного кассового аппарата. Я беру деньги и со всех ног мчу в пекарню, спрашиваю Йонаса, выпаливаю ему свой заказ и возвращаюсь обратно с тридцатью буханками — это тяжелее, чем кажется.
Пока Бэбс проверяет заказ, я пытаюсь отдышаться.
— Посуду мыть умеешь?
Я киваю. Уж с этим я справлюсь.
Она смиренно встряхивает головой.
— Иди в подсобку и попроси Натаниэля познакомить тебя с «Хобартом».
— С Хобартом?
— Ага. Вам придется много общаться.
Оказывается, что это название огромной посудомоечной машины, и, когда ресторан открывается, я действительно провожу с ней много времени — споласкиваю тарелки из огромного шланга, потом загружаю их в «Хобарта», выгружаю, хотя они еще обжигающе горячие, и повторяю все сначала. Как ни странно, я справляюсь с нескончаемым потоком посуды, ничего не уронив, да и пальцы не сжигаю насмерть. Когда случается затишье, Бэбс велит нарезать хлеб или взбить сливки вручную (она уверяет, что так вкуснее), вымыть пол или принести вырезку из огромного холодильника, где я помещаюсь в полный рост. Я весь вечер на взводе, боюсь облажаться.
Натаниэль, младший повар, поддерживает меня, как может, рассказывает, где что лежит, помогает отмывать сотейники, когда у меня завал.
— Ты еще выходных дождись, — предупреждает он.
— Я-то думала, что сюда никто не ходит, — я тут же прикрываю рот рукой, инстинктивно понимая, что Бэбс разозлится, если услышит такое.
— Ты шутишь? Все филадельфийцы, знающие толк в еде, просто молятся на Бэбс. Ездят сюда только ради нее. Если бы она переехала в город, зарабатывала бы куда больше, но она говорит, что ее собакам там не понравится. Под собаками она, по-моему, нас подразумевает.
Когда уходят последние посетители, кажется, что все работники кухни и официанты выдыхают разом. Кто-то включает старых «Роллингов». Сдвигают несколько столов, и все садятся вместе. Уже за полночь, а мне далеко до дома. Я начинаю собираться, но Натаниэль подзывает меня за стол. Я сажусь, мне как-то неловко, хотя я весь день терлась с этими людьми бок о бок.
— Пива хочешь? — спрашивает он. — За него надо платить, но без наценки.
— Или можешь взять никому не нужного вина, которое притащили дистрибьюторы, — говорит официантка по имени Джиллиан.
— Лучше вина.
— В твоих объятиях как будто кто-то умер, — острит другой официант. Я смотрю на себя. Моя хорошая юбка и топик — я специально принарядилась в поисках работы — заляпаны различными соусами, отдаленно напоминающими различные человеческие выделения.
— У меня такое ощущение, что это я сама умерла, — отвечаю я. По-моему, я ни разу в жизни так не уставала. У меня все мышцы болят. Руки красные от горячей, чуть не кипящей воды. А ноги? Лучше даже не начинать.
Джиллиан смеется.
— Слова истинного кухонного раба.
Появляется Бэбс — с огромными тарелками дымящейся пасты и небольшими порциями из того, что осталось от рыбы и мяса. У меня урчит в животе. Раздают тарелки. Не знаю уж, насколько это «эклектично», но потрясающе вкусно, соус лишь едва оранжевый, а вкус скорее подкопчённый, чем острый. Я съедаю все подчистую, а остатки соуса собираю хлебом Йонаса — без закваски.
— Ну и? — спрашивает Бэбс.
Все смотрят на меня.
— Это был почти самый вкусный ужин за всю мою жизнь, — говорю я. И это правда.
Все ахают, словно я оскорбила хозяйку. Но она ухмыляется.
— Уверена, что под самым вкусным подразумевается какой-нибудь парень, — говорит она, и я краснею, как свекла.
Бэбс велит мне приходить завтра к пяти, и все начинается сначала. Я вкалываю, как не вкалывала никогда раньше, изумительно вкусно ужинаю и валюсь в постель. Я даже не знаю, поставили ли меня временно на чье-то место или пока просто взяли на пробу. Бэбс постоянно на меня орет — за то, что помыла ее чугунный сотейник с мылом или не смыла помаду с чашек прежде, чем загрузить их в Хобарта, за слишком или недостаточно густые взбитые сливки, или что ванильного экстракта чересчур много или мало. Но к четвертому дню я перестаю принимать это на собственный счет.
А на пятый вечер, перед тем как народ повалит ужинать, Бэбс меня подзывает. Она стоит возле холодильника и пьет водку из бутылки — она всегда так делает перед самым наплывом. На горлышке остаются следы помады. На миг меня охватывает страх — все, она меня сейчас уволит. Но вместо этого она сует мне стопку документов.
— Это налоговые бланки, — объясняет Бэбс. — Я плачу по минимуму, но будешь получать чаевые. Кстати. Ты же еще не брала, — она достает из-под кассы конверт с моим именем.
Я открываю. Там неплохая пачка денег. Сотня наверняка есть.
— Это мне?
Она кивает.
— Чаевые мы делим на всех.
Я провожу пальцем по краю стопки, цепляясь за банкноты испорченным ногтем. Руки у меня теперь выглядят ужасно, но мне плевать, потому что это от работы, которая принесла мне эти деньги. Меня просто распирает — но не из-за того, что я смогу купить билет на самолет до Парижа, да и вообще не из-за денег.
— Осенью будет больше, — добавляет Бэбс. — Летом у нас тихо.
Я запинаюсь.
— Отлично. Но осенью меня не будет.
Она хмурит рыжие брови.
— Я же тебя только взяла.
Мне не по себе, стыдно, но ведь это было сказано в резюме, в самой первой его строчке: «Цель — найти краткосрочную работу». Но Бэбс его, конечно, не прочитала.
— Я в колледже учусь, — объясняю я.
— Подстроимся под твой график. Джиллиан тоже учится. И Натаниэль. Время от времени.
— Я в Бостоне.
— А, — она смолкает. — Ну, ладно. После Дня труда[45], наверное, приедет Гордон.
— Я планирую уехать в конце июля. Но это только если накоплю к тому времени две тысячи долларов, — сказав это, я провожу подсчет. Если чаевых будет больше ста за неделю, плюс официальная зарплата — вообще-то, может, и получится.
— На машину копишь? — рассеянно спрашивает она и делает еще глоток водки. — Могу свою тебе продать. Не то эта скотина меня прикончит, — у Бэбс древний «Форд Тандерберд».
— Нет. На поездку в Париж.
Она ставит бутылку.
— В Париж?
Я киваю.
— А что там?
Я смотрю на нее. И впервые за какое-то время задумываюсь о нем. В суете кухни он как-то стал абстракцией.
— Ищу ответы на свои вопросы.
Она с таким чувством встряхивает головой, что рыжие волосы вырываются из-под банданы.
— Кто ездит в Париж за ответами? Туда надо ехать за вопросами — ну или, по крайней мере, есть макароны.
— Макаруны? Эти кокосовые штучки? — Я вспоминаю эти ужасные заменители печенья, которые мы едим на Пасху.
— Не макаруны. Макароны. Это печенье из безе пастельных цветов. Съедобные поцелуи ангелов, — она смотрит на меня. — И когда тебе нужно две тысячи?
— К августу.
Бэбс щурится. Глаза у нее всегда красные, хотя, как ни странно, обычно в начале рабочего дня, а к концу они начинают как-то маниакально светиться.
— У меня к тебе предложение. Если ты не против поработать дополнительно в обеденную смену по выходным, я гарантирую, что у тебя будут твои две штуки к двадцать пятому июля — тогда ресторан закрывается, потому что отпуск у меня. Но на одном условии.
— Каком?
— Каждый день съедай там макароны. Но только свежие, так что пачку не покупай, — она закрывает глаза. — Впервые я их попробовала в Париже, во время медового месяца. Я сейчас в разводе, но какая-то любовь — вечная. Особенно если влюбился в Париже.
У меня по шее пробегает холодок.
— Вы действительно так думаете?
Бэбс делает еще глоток водки, глаза у нее вспыхивают, как будто она все понимает.
— Ах, так вот какие ответы тебе нужны. Ну, с этим я помочь не могу, но если ты сгоняешь в холодильник и принесешь пахту и сливки, я отвечу тебе на легендарный вопрос, как сделать идеальный крем-фреш.
Двадцать семь
Июнь
Дома
Вводный курс французского длится шесть недель, по три дня в неделю, с половины двенадцатого до часу — еще один повод поменьше времени проводить в Доме Порицания. Хотя теперь я вечерами в «Кафе Финлэй», а по выходным — целый день, но по будням я хожу только к пяти, а в понедельник и вторник ресторан закрыт, так что все равно полно свободного времени, когда нам с мамой приходится друг друга избегать.
В первый день занятий я прихожу на полчаса раньше, покупаю в киоске чай со льдом, отыскиваю нужный кабинет и начинаю рассматривать учебник. Там много фотографий с видами Франции, в первую очередь Парижа.
Потом начинают подтягиваться и другие ученики. Я думала, тут будут ребята из колледжа, но все остальные скорее ровесники моим родителям. За соседний стол садится женщина с мелированием на светлых волосах, говорит, что ее зовут Кэрол, и предлагает мне жвачку. Я с радостью пожимаю ей руку, но отказываюсь от угощения — жевать на уроке кажется как-то не по-французски.
Большими шагами входит похожая на птицу женщина, седая и с короткой стрижкой. Создается впечатление, что она сошла со страницы журнала: ее обтягивающая льняная юбка-карандаш и простая шелковая блузка идеально отглажены, что кажется совершенно невозможным с учетом того, что на улице влажность девяносто процентов. Более того, на шее у нее шарфик, что при такой погоде тоже странно.
Очевидно, она француженка. Даже если бы шарф ее не выдавал — она вышла перед всеми и заговорила. По-французски.
— Мы что, не туда попали? — шепчет Кэрол. Потом преподавательница подходит к доске и записывает свое имя — мадам Ламбер и название курса — «французский для начинающих» и добавляет то же самое на французском. — Нет, не повезло, — говорит Кэрол.
Мадам Ламбер поворачивается к нам и говорит на английском, но с сильнейшим французским акцентом, что это начальный курс французского, но что лучший способ выучить язык — слушать его и говорить на нем. И все, больше английской речи за следующие полтора часа я почти не слышала.
— Je m’appelle Thérèse Lambert[46], — говорит она, произнося: «Те-рез. Ламб-бер». — Comment vous appelez-vous?[47]
Мы все смотрим на нее с изумлением. Она повторяет вопрос, показывая на себя, а потом на нас. Но все равно никто не отвечает. Учительница закатывает глаза и щелкает зубами. Потом показывает на меня. Снова щелкает зубами и показывает рукой, что я должна встать.
— Je m’appelle Thérèse Lambert, — медленно выговаривает она, хлопая себя по груди. — Comment t’appelles tu?[48]
Я на миг застываю, мне кажется, что я снова вижу перед собой Селин, которая болтает что-то на своем языке и смотрит на меня с презрением. Мадам Ламбер еще раз повторяет вопрос. Я понимаю, что она спрашивает, как меня зовут. Но я же не говорю по-французски. Если бы говорила, меня бы тут не было. Это же курс для начинающих.
Но она просто стоит и ждет. И не собирается разрешить мне сесть.
— Je m’appelle Allyson?[49] — пробую я.
Преподавательница довольно улыбается, словно я ей только что рассказала о предпосылках французской революции на этом языке.
— Bravo! Enchanté, Allyson[50].
После чего она обходит весь класс, знакомясь подобным образом со всеми остальными.
Это был первый раунд. После него идет второй: Pourquoi voulez-vous apprendre le français?[51]
Она повторяет новый вопрос, записывает его на доске, некоторые слова обводит, подписывая их значение на английском. Pourquoi: почему. Apprendre: учить. Voulez-vous: вы хотите. А, ясно. Она спрашивает, почему мы хотим учить французский.
Однако я понятия не имею, как отвечать. Я поэтому сюда и пришла.
Но она продолжает:
— Je veux apprendre le français parce que…[52] Je veux: я хочу. Parce que: потому что. — Она повторяет это трижды. А потом показывает на нас.
— Я могу сказать, я знаю это слово из фильма, — шепчет Кэрол и поднимает руку. — Je veux apprendre le français parce que, — говорит она, спотыкаясь на каждом слове и с ужасным акцентом, но мадам лишь смотрит на нее, ожидая. — Parce que le divorce![53]
— Excellent[54], — говорит мадам Ламбер, слово точно такое же, как и в английском, но на французском оно звучит еще лучше. Она записывает. Le divorce. — Развод. La même[55], — говорит она. И подписывает: «то же самое». Потом записывает «le mariage»[56] и объясняет, что это антоним.

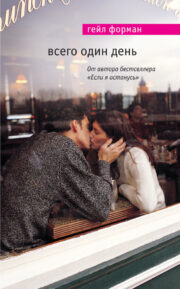
"Всего один день" отзывы
Отзывы читателей о книге "Всего один день". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Всего один день" друзьям в соцсетях.