ГЛАВА ТРЕТЬЯ
По одному взгляду на дом, которым так гордился его хозяин — господин Малик Амвар, можно было определить, что построен он сравнительно недавно — для Лакхнау, конечно, где старина подлинная, седая привычное и повседневное явление. В иной европейской столице такое здание вполне могло бы считаться старым и потому заслуживающим особенного уважения. Здесь же знатоки морщили нос, называя примерную дату его постройки — середина прошлого века. Господин Малик Амвар мог бы, впрочем, вполне достоверно датировать строительство, но ни за что не стал бы этого делать, продолжая упорно настаивать на том, что дом его не моложе жилищ других знатных семей. Несмотря на то, что это могло вызвать только скептическую улыбку у всех, кто хоть немного знаком с историей города, открыто возражать хозяину никто не осмеливался, зная его заносчивый и высокомерный характер.
Архитектурный стиль дома определяли как «индийское рококо». Именно здесь, в Лакхнау, да еще в Аллахабаде достиг своего наивысшего расцвета этот поздний провинциальный вариант классического индо-персидского стиля, осложненный украшательством, заимствованным из Европы. В хаотическом смешении разнородных элементов были повинны прежде всего европейские зодчие, находившиеся на службе при дворе навабов. Одни из них предпочитали соединять местные представления о богатом доме с роскошью версальских строений, другим не давал покоя британский классицизм, третьи вдохновлялись европейской готикой.
Архитектор, которого выбрал предок нынешнего хозяина особняка, бредил итальянским Ренессансом, хотя и готика была ему не чужда. Над массивным первым этажом, украшенным строгими персидскими арками, громоздился барадари — павильон, воздушная балюстрада которого вызывала в памяти почтовые открытки с видами Рима. Ее украшали коринфские колонны и фантастические водостоки в виде голов драконов, словно на каком-нибудь пражском соборе. Дом выглядел на редкость причудливо, но в нем было очарование, и если бы хозяин мог вполне оценить его, то не сокрушался бы так о порочащей молодости своего жилища.
Для Фейруз же этот особняк был лучшим местом на свете. Она родилась в нем восемнадцать лет назад, провела здесь счастливые годы детства и любила свой огромный, полный просторных залов и крошечных чуланчиков, потайных лестниц, никуда не ведущих коридоров и ничего не поддерживающих колонн дом больше, чем самое стилистически безупречное строение на свете.
Убранство его вполне отвечало вкусу ее отца. Особняк был просто забит роскошными вещами: драпировками из драгоценных тканей, люстрами изумительной работы, старинными безделушками, резной мебелью из редких пород дерева, персидскими коврами и прочим.
Если бы девушка могла взглянуть на это свежим взглядом, то ей, конечно, бросилось бы в глаза, что вещей в доме слишком уж много и было бы лучше избавиться от большей их части ради создания более стройного впечатления от убранства комнат, соответствующего представлению о хорошем вкусе. Но она провела среди этих вещей всю жизнь, и почти не замечала их и того излишества, которое не понравилось бы новому человеку со строгими критериями красоты интерьера.
Сейчас Фейруз сидела в тяжелом венецианском кресле в столовой и в ожидании обеда листала журнал мод, которыми живо интересовалась, несмотря на то, что ей никогда бы не позволили надеть даже самое скромное из изображенных в нем платьев, если бы ей пришло в голову об этом попросить. Вдоль всех стен стояли невысокие комоды и горки итальянской работы, полные разнообразной посуды из тонкого фарфора и хрусталя, которой вполне хватило бы, чтобы посадить за стол весь квартал.
Посреди комнаты находился стол, покрытый белой скатертью с дорогим кружевом, который окружала дюжина тяжелых стульев. На расставленных здесь и там низких табуретах блестели начищенные панданы — серебряные коробочки для листьев бетеля и других компонентов для составления жевательной массы. Рядом с ними стояли чеканные тхукданы — серебряные и медные плевательницы в форме больших чаш для бетелевой жвачки. На пышном ковре в углу ожидали курильщиков посеребренная хукка — трубка с длинным мундштуком для курения через воду, а около нее — маленькая кочерга и щипцы для разгребания древесных углей на случай, если трубка погаснет.
— Что сегодня на обед, Садат? — спросила Фейруз у вошедшего, чтобы накрыть на стол, слуги, отрывая взгляд от журнала.
— Ваше любимое, госпожа, — улыбнулся Садат, с удовольствием отвечая своей хозяйке, которую кормил еще много лет назад кислым молоком и просяной кашей. — Мясной рулет с маринованным манго. Гарнир рисовый. А на сладкое — розовый сироп.
— Мороженое с розовым сиропом, ты хочешь сказать, — лукаво прищурилась девушка.
— Хорошо, сейчас пошлю мальчишку в магазин. Сами не успеем сделать, — оправдываясь, произнес слуга и пошел к дверям, чтобы выполнить пожелание своей любимицы.
— Пусть возьмет фисташковое! — крикнула она вслед.
В это время на пороге комнаты появился другой человек в такой же зеленой ливрее.
— Госпожа! — шепотом позвал он ее, осмотрев комнату и убедившись, что она пуста. — Я меня для вас письмо.
— Что? — удивилась Фейруз, однако встала и подошла к двери. — От кого?
— Прошу вас, не говорите вашим родителям, что я осмелился принести его вам, — взмолился маленького роста толстячок, в котором девушка узнала привратника. — Я и сам не пойму, как я на такое решился. Но уж очень он был расстроен… Такой приятный юноша…
— О чем вы? Какой юноша? — подняла брови Фейруз, принимая у него из рук письмо.
— Не знаю… Я уж лучше пойду, — почти простонал привратник, вытирая со лба мелкие капли пота.
— Ладно, идите, — сжалилась девушка, видя, что каждая лишняя минута здесь кажется ему опасной. — Разберусь сама.
Вертя в длинных пальцах с отполированными ноготками голубой конверт, она вернулась в свое кресло. Однако вскрывать письмо сразу не стала, а несколько минут просидела в задумчивости, уронив на руку голову, так что кончик тяжелой косы коснулся ковра. Фейруз очень шло золотистое платье, в котором она ходила дома — оно прекрасно гармонировало с ее медового цвета глазами, в которых блестели золотые искорки. Широкие дуги четко очерченных бровей почти сходились у переносицы. Пухлые губы маленького рта казались необыкновенно яркими на бледном лице, кожа которого почти не знала солнца — Фейруз, как и все состоятельные девушки из индийских семей, очень дорожила своей светлой кожей, отличавшей ее от дочерна загорелых простолюдинок, которые и без того от природы были часто куда смуглее, чем холеные дочери старинных родов. Мягкий овал лица, чистый лоб — все напоминало в Фейруз о классической восточной красоте, о прелестных девушках средневековых персидских миниатюр, но более всего — сдержанная грациозность каждого ее жеста, каждого движения. Ее черты были, пожалуй, слишком тонкими, слишком одухотворенными для того, чтобы все без исключения считали девушку красавицей, но для тех, кому нравился такой тип внешности, Фейруз не имела равных в Лакхнау.
Выйдя из странной задумчивости, которая охватила ее, как только к ней в руки попал голубой конверт, Фейруз стала вскрывать письмо. Она испытывала при этом какое-то непонятное волнение, тем более удивительное, что для него, казалось, не было никаких причин. В их дом каждый день приходили письма, адресованные ей лично, но никогда они не вызывали у нее беспокойства — даже своим содержанием, а не только внешним видом, как это.
«Может быть, это просто предчувствие чего-то важного? — подумала девушка, ища причину своего волнения. — Но хорошего или плохого?»
Она развернула сложенный вчетверо лист и прочла первые строчки:
Скользит, как тень светила, мимо,
Не подарив короткий взгляд,
Та, что всю душу истомила…
— Секандар! — прошептала она, поднимая глаза от письма. — Его руку ни с чьей другой не спутаешь… Секандар пишет мне любовное письмо?
Она прижала руки к моментально покрасневшим щекам и закричала, будто ища спасения от постигшего ее несчастья:
— Мама! Мама!
— О, Боже! Девочка, что ты кричишь? Что с тобой? — вбежала в комнату испуганная мать и схватила дочь за руки, пытаясь заглянуть ей в глаза. — Что случилось?
— Прочтите сами! Вот, — Фейруз протянула ей голубой листок.
Мать подобрала соскользнувшее с головы от быстрого бега покрывало и посмотрела на строчки.
— Почерк Секандара. Что это он — как обычно, стихи переписывает? — недоуменно спросила она. — Отчего ты так напугана, я что-то не пойму.
— Мама, это письмо мне, взгляните на конверт, — простонала Фейруз. — Может, он с ума сошел, а?
— Ты хочешь сказать, что Секандар написал тебе письмо со стихами о любви? — с ужасом спросила мать. — О, Аллах всемогущий! Секандар, мальчик мой!
— Что опять натворил этот сумасброд? — спросил, входя в столовую, ее муж.
Человек уже немолодой и обремененный болезнями, он держался так, что невозможно было и мысли допустить, что у него хоть что-нибудь может получаться иначе, чем он считает нужным. Даже точно такая же, как у дочери, родинка на подбородке не только выглядела украшением, но казалась последней точкой, поставленной под крупными морщинами этого надменного лица. В его осанке чувствовалась властность и уверенность в себе, которая не дается ни богатством, ни положением, а только длинной чередой предков, привыкших управлять людьми и подчинять их своей воле.
Господин Малик Амвар опирался на трость, чтобы смягчить боль в спине, однако сандаловая палка с тяжелым золотым набалдашником воспринималась окружающими как прихоть, а не как необходимая помощница, так прямо держался этот человек. Всегда одетый во все черное — ширвани, брюки и традиционную шелковую шапочку, он казался воплощением духа лакхнаусского высокомерия не последнего качества в среде свято хранящих память о былом величии этих мест знатных горожан.
— Ну, что там выкинул этот мальчишка? — спросил хозяин дома, грозно сводя лохматые брови.
Жена заколебалась, не зная, что предпринять, чтобы избежать вспышки его гнева, но все-таки протянула ему листок:
— Вот, прочтите. Это Секандар пишет Фейруз…
Малик Амвар дважды перечитал письмо, не веря собственным глазам. Лицо и даже ладони его покрылись красными пятнами, пальцы чуть заметно дрожали.
— Любовное послание собственной сестре? — медленно произнес старик, поднимая взгляд от пугающих строчек. — Негодяй, какой негодяй…
Он помолчал минуту, стараясь сосредоточиться, чтобы спокойно обдумать случившееся, но поняв, что чувства, обуревающие его, слишком сильны, чтобы удалось сдержать их, закричал:
— Секандар! Сюда сейчас же!
— Иду, папа! — раздался ответный крик, и в комнату вбежал недавний Чадди-шах, успевший сменить одежду своего «невоспитанного» благодетеля на щегольский белоснежный ширвани и такие же брюки.
— Я здесь, что скажете? — испуганно спросил он, на полусогнутых ногах подходя к отцу.
Тот устремил на сына пылающий взор, как будто желая испепелить на месте того, кто, кажется, решил навлечь позор на его голову. Секандар застыл в некотором отдалении, точно рассчитав расстояние, на котором тяжелая палка отца в случае ее применения не смогла бы нанести ему серьезного увечья. Он лихорадочно обдумывал, чем мог быть вызван гнев отца, но так как грехов за ним водилось немало, не мог вычислить, какой именно дошел до ушей его строгого родителя. К тому же непонятно было, что могло выплыть здесь, в Лакхнау, где он бывал так редко в последние годы и где старался вести себя паинькой. Но выходит, старайся — не старайся, а результат один. Мало того, что ноет разбитая скула, а тут еще предстоит выволочка — и обиднее всего, что не известно, за что.
— Подойди поближе, — приказал отец.
— Сию минуту, — покорно ответил сын и сделал маленький шажок в его сторону, косясь на проклятую палку.
— Что это? — стараясь говорить спокойно, спросил Малик Амвар и протянул сыну письмо.
— Бумага, — пожал плечами Секандар, не спеша взять листок.
«Может быть, это канадка — как там ее, Лайза, что ли, — на которой я обещал жениться, написала отцу письмо, — подумал он. — Но где она могла взять адрес?»
— Бумага? — взревел, не в силах больше сдерживаться, Малик Амвар, пораженный невинным видом сына. — Это любовное письмо, написанное тобой, твоей рукой, мерзавец!
«Нет, это Радха, точно она, Радха из Дели, — содрогнулся внутренне Секандар. — Лайзе я писем не писал. А Радха, она может такое устроить, характер у нее отвратительный, надо прямо сказать…»
— Но, папа, — начал он, стараясь, чтобы в голосе звучала самая неподдельная искренность. — Эта женщина, у нее с головой не все в порядке…

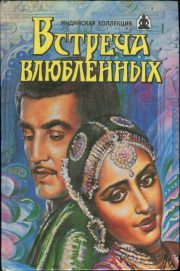
"Встреча влюбленных" отзывы
Отзывы читателей о книге "Встреча влюбленных". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Встреча влюбленных" друзьям в соцсетях.