По стенам камер стояли грубые лавки, но дамы-арестантки расположились на них с таким достоинством, словно это были мягчайшие диваны или кресла в их роскошных гостиных.
У одной леди оказались с собой мятные леденцы, и она пустила их по кругу. Другая, надушив носовой платочек духами из крошечного изящного флакончика, предложила своим подругам сделать то же самое.
— Не выношу тюремного запаха! — воскликнула она.
Виола от души с ней согласилась.
Действительно, в камере стояла невыносимая удушливая вонь — смесь запаха немытых тел и протухшей воды, сочившейся по скользким камням.
Пол, как ни странно, был чист, а вот забранное решеткой окно, расположенное под самым потолком, похоже, никогда не мыли, и света оно почти не пропускало.
Виола, впервые оказавшаяся в такой обстановке и не знавшая, чего ожидать в будущем, рискнула спросить свою соседку:
— Мы что, останемся здесь на всю ночь?..
— Ну разумеется! — энергично откликнулась та. — Надеюсь, вы как следует поели перед выходом из дому? А то ведь его величество относится к арестантам весьма негостеприимно — не дает ни есть, ни пить!
Виола вспомнила один-единственный сандвич и крошечные глазированные пирожные, которые она съела на приеме у маркизы Роухэмптонской, и подумала, что вряд ли это можно назвать сытным обедом.
Правда, есть ей пока не хотелось, зато вконец замучила жажда, вызванная отчасти страхом, а отчасти — духотой и вонью, царившими в камере, где на ограниченном пространстве было собрано довольно много людей.
И все же, как вынуждена была признать Виола, ей еще повезло — она оказалась рядом с женщинами, принадлежавшими к ее классу, а не с какими-нибудь пьянчужками, воровками или проститутками.
— Раз уж нас здесь заперли, то давайте хотя бы что-нибудь учиним, — предложила одна из узниц. — Мы можем, к примеру, начать выкрикивать наши лозунги. Надо же, в конце концов, дать им понять, чего мы хотим! Пусть видят, что нас не так легко сломить.
Ответом на это дерзкое предложение был дружный смех, тут же сменившийся громкими возгласами: «Предоставить женщинам избирательные права!», «Долой правительство!» — и тому подобными, скандируемыми так дружно, что от крика, казалось, сотрясались стены.
Виола понимала, что ей тоже нужно присоединиться к общему хору, но язык прилип к гортани, а губы совершенно не слушались.
Она смотрела на этих воодушевленных женщин и никак не могла взять в толк, действительно ли они хотят добиться избирательных прав или борьба за эти пресловутые права уже стала для них самоцелью?
По мере того как текли мучительные часы этой ужасной ночи. Виола все больше склонялась к тому, что второе ее предположение ближе к истине. Складывалось впечатление, что этих женщин не занимают никакие другие жизненные ценности. Они ни разу не заговорили о семье или о детях, а ведь, судя по всему, многие из них были замужними дамами.
Если ее товарки на какое-то время смолкали, устав выкрикивать лозунги, то развлекались тем, что хихикали или сплетничали, критиковали своих лидеров, а также избранные ими методы борьбы и проведения собраний. Иногда они хвастались своими планами, которые, по их мнению, должны были поднять суфражистское движение на небывалую высоту.
— Я так и заявила Сильвии Панкхерст — чем скорее мы подложим бомбу в палату общин, тем лучше! — непререкаемым тоном заявила одна.
— Но как ее туда пронести? — озабоченно спросила другая. — Стражи порядка уже начали с подозрением посматривать на большие муфты, а иногда даже просят дам открыть сумочки!
— Но это просто безобразие! — с возмущением вмешалась в разговор третья. — Мужчины ведь не носят сумочек, а для нас это — неотъемлемая принадлежность туалета… Опять налицо дискриминация!..
— Миссис Панкхерст просила нас выдвигать свежие идеи, — напомнила хорошенькая бойкая брюнетка. — Так вот, у меня их полно, и я намерена огласить их на ближайшем собрании комитета.
— Нам надо заручиться поддержкой леди Генри Сомерсет, — заявила дама, сидевшая неподалеку от Виолы. — Она и миссис Альфред Литтлтон придадут нашему движению необходимую ему популярность!
— Ну а я бы предпочла увидеть на первых полосах газет имя леди Фрэнсис Бальфур, — возразила бойкая брюнетка. — Только подумайте, какой фурор это вызовет в обществе — знатная дама во главе суфражисток!
Все больше людей начинают понимать, что наше дело правое, — наставительно заметила соседка Виолы, — а значит, недалек тот день, когда нас признает весь мир!
Виоле это мнение показалось слишком оптимистичным, однако аудитория встретила его единодушным одобрительным гулом. Значит, она вновь осталась в меньшинстве…
Чтобы скоротать время, суфражистки принялись с одинаковым рвением распевать псалмы и фривольные песенки из водевилей.
Это напомнило Виоле о том, что вскоре ей предстоит пойти вместе с лордом Кроксдейлом на премьеру «Веселой вдовы».
Об этой постановке много говорили, и девушка предвкушала занимательное зрелище, однако мысль, что придется смотреть пьесу в обществе графа, портила ей настроение.
«Зря я согласилась на его предложение, — мысленно укоряла себя Виола. — Впрочем, теперь это уже не имеет значения — после того как мое имя появится в газетах, я буду опозорена, и граф наверняка знать меня не захочет».
Дело в том, что граф был другом самого, короля, а отрицательное отношение его величества к суфражисткам было хорошо известно.
А вот интересно, подумала вдруг Виола, что сказал бы сэр Ричард, если бы увидел ее сейчас здесь, в душной камере, в окружении воинствующих суфражисток, ожидающей вынесения приговора?..
Ее невеселые мысли потекли дальше. Виола не представляла, каков может быть срок тюремного заключения, но подозревала, что немалый — во всяком случае, достаточный для того, чтобы лишить ее возможности не только пойти с графом в театр, но и посетить его загородный дом во время уик-энда.
Интересно, поедет ли мачеха в Кроксдейл без нее? Почему-то Виола была уверена, что в этом случае граф будет весьма разочарован.
«Ну и прекрасно! — философски подытожила девушка свои рассуждения. — Я могу извлечь хоть какую-то выгоду из этого моего плачевного положения».
Ей припомнилось то чувство гадливости, которое появлялось у нее всякий раз, когда лорд Кроксдейл брал ее за руку или садился слишком близко.
«Наверное, я просто все это выдумала», — решила Виола, однако ничего не могла с собой поделать — чувство отвращения к графу не покидало ее.
Затем ее мысли обратились к Рейберну Лайлу.
Пожалеет ли он ее, когда узнает, что она все-таки попала в тюрьму? Ведь ему известно, как она этого боялась…
А какой он добрый! Ведь он не вызвал полицию, когда обнаружил у себя в кабинете бомбу.
Неожиданно Виоле стало страшно при мысли о том, что было бы, если бы злополучный снаряд все-таки взорвался. Ведь наверняка пострадал бы не только дом Лайла, а и сам молодой человек был бы изувечен, а возможно, и убит…
Рейберн Лайл понимал это, но как храбро себя вел! Ничуточки не испугался…
Другой бы на его месте наверняка просто закрыл двери и оставил ее, Виолу, на произвол судьбы — в конце концов, она сама во всем виновата. А Лайл в первую очередь подумал о ней, спрятал ее за диваном и прикрыл своим телом…
«Мне следовало бы поблагодарить его за это», — с запоздалым сожалением подумала Виола.
Ей припомнилось ощущение тяжести мужского тела на ее собственном. Но именно сила и хладнокровие Лайла внушили ей, что она в безопасности, хотя Виола была так напугана, что плохо соображала.
Тогда, рядом с Лайлом, она не ощущала ни гадливости, ни отвращения, а вот стоило графу только коснуться ее руки, и ей тут же инстинктивно захотелось отдернуть руку и самой отпрянуть от него.
Интересно, почему эти двое мужчин вызывают у нее такие разные чувства?..
Перед Виолой снова встало красивое лицо Рейберна Лайла и выразительный взгляд, которым одарила его леди Давенпорт, замеченный Виолой на приеме у маркизы Роухэмптонской.
«Какая она красивая! — подумала Виола. — И он, наверное, очень ее любит…»
Эта ночь, казалось, никогда не кончится. Пару раз Виола уже начинала дремать, но в ту же минуту ее будил чей-нибудь пронзительный возглас «Предоставить женщинам избирательные права!» или громкая песня, которую принимались петь узницы. Виола с удивлением смотрела на суфражисток, которые словно бы не знали усталости.
Наконец утро все-таки наступило. Через грязное оконце в камеру проник тусклый серый свет.
Женщины, как могли, постарались привести себя в порядок. У одной нашелся гребешок, у другой — зеркальце. Все это было пущено по кругу.
Но пришлось ждать еще несколько часов, прежде чем лязгнул засов и в камере появились полицейские. Женщин одну за другой начали выводить в коридор.
— Если нашим делом в суде занимается мистер Кертис-Беннетт, то ничего хорошего не жди! — заметила одна из арестанток.
— До встречи в тюрьме! — задорно кричали узницы, прощаясь друг с другом.
Они выходили из камеры с высоко поднятой головой и выражением решимости на лице.
«Какие они храбрые! И как отважно держатся…» — подумала Виола.
Она тоже постаралась придать своей походке и осанке больше твердости, но на душе у нее по-прежнему было тяжело, а пальцы, холодные как лед, предательски дрожали.
Когда арестованные суфражистки скрылись за дверями суда, Рейберн Лайл обратился к своему спутнику-офицеру:
— Могу я поговорить с дамой, которая только что прошла мимо? Она была последней в этой процессии.
Офицер покачал головой.
— Боюсь, что нет, сэр. Но вы можете передать ей ваше сообщение через меня.
— Это очень любезно с вашей стороны, — вежливо заметил Лайл.
Он отвел офицера в сторонку и что-то зашептал ему на ухо. Затем Лайл торопливым шагом покинул здание полицейского участка и направился к ожидавшему его экипажу.
Офицер же вошел в помещение зала судебных заседаний.
Как обычно в таких случаях, там уже толпились жадные до сенсаций репортеры. Они даже начали что-то писать в своих блокнотах, хотя судебное заседание еще не открылось.
Места для публики тоже не пустовали. В основном они были заполнены праздными зеваками, которые заранее предвкушали удовольствие от того, как знатные дамы будут «валять дурака».
Присутствовали здесь и женщины победнее. Им хотелось понять смысл нового движения, в котором с таким пылом участвуют эти богатые дамы.
Судья, мистер Кертис-Беннетт, был весьма суров и деловит.
Во главе арестанток шла некая миссис Деспард, которая, как стало известно Виоле, была признанным лидером суфражистского движения.
По всей видимости, эту ночь в камере она провела, репетируя свою будущую речь, и теперь принялась с жаром объяснять судьям, что вчерашнее выступление суфражисток было лишь началом большой кампании, которая будет продолжаться до тех пор, пока правительство не удовлетворит их главное требование и не предоставит женщинам равные с мужчинами избирательные права.
— Пути назад у нас нет, — объяснила миссис Деспард, — и чем скорее мы добьемся своего, тем лучше для вас!
В ответ мистер Кертис-Беннетт сурово отчитал ее, напомнив, что беспорядки на улицах являются преступлением и должны быть, безусловно, прекращены.
— Двадцать шиллингов штрафа или две недели тюрьмы! — вынес он свой приговор, на что миссис Деспард с достоинством отвечала:
— Я выбираю тюрьму. Да здравствует наше дело!
Тот же выбор был предоставлен следующей подсудимой, и она ответила так же.
Именно в этот момент к Виоле, стоявшей в конце ряда, подошел полицейский офицер.
Наклонившись, он зашептал ей на ухо:
— Когда судья обратится к вам с этим вопросом, мисс, сделайте вид, что вам стало дурно. Штраф за вас обещал заплатить некий джентльмен, который ожидает вас у входа в карете…
Виола удивленно посмотрела на говорившего, но не успела сказать ни слова, как он уже отошел от нее.
В это время следующая арестантка громко объявила:
— Я выбираю тюрьму, и да будет проклято наше жестокое правительство!
Постепенно арестованных женщин становилось все меньше и меньше. Тех, кому приговор был уже вынесен, увели обратно в тюрьму. Наконец дошла очередь и до Виолы.
Она предстала перед судьями, чувствуя, как отчаянно колотится сердце, и в то же время пытаясь сообразить, как ей действовать дальше.
Девушка понимала, чего ожидает от нее мачеха, — ведь та намеренно спровоцировала арест падчерицы.
Виола убеждала себя, что нельзя быть такой трусихой. Надо пройти через выпавшие на ее долю испытания подобно тому, как поступили все эти женщины. И в то же время в глубине души она была твердо убеждена, что это не ее стезя.
Во-первых, она сомневалась в том, что суфражистки борются за правое дело, а во-вторых, не одобряла избранных ими методов, которые шли вразрез с ее характером и воспитанием.

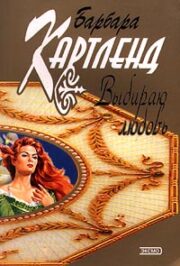
"Выбираю любовь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Выбираю любовь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Выбираю любовь" друзьям в соцсетях.