Мне доставляет радость думать о ней, о том, какая она есть на самом деле, мне кажется, что она и не могла быть другой, я просто не могу представить себе другую Лауру.
Она тихая и неугомонная, застенчивая и смелая, смешная и драматическая, уступчивая и гордая. Иногда серьезная. Она восхитительна с ее изменчивым прелестным профилем, с ее округлой мордашкой, с нежными линиями рта с ее тонкими светлыми волосами. С ее ножками и ручками. А ее глаза! Я ни у кого не видел таких светящихся глаз. Когда она смотрит мне глаза в глаза, мои начинают светиться так же.
Лаура — все это и множество чего еще, чего я не в состоянии выразить словами, потому что существуют вещи, о которых невозможно рассказать. Например, любовь. Прежде всего, любовь. Любовь, какую я испытываю к своей дочери. Любовь легкая и глубокая. Легкая — потому что светлая, безоблачная, ничем не отягощенная, всепоглощающая, отличная от той, что я испытываю к Элизе. Глубокая — потому что в этой любви есть все: там есть я, есть мы, есть годы прожитые и те, что мы должны еще прожить, есть огромная часть смысла моей жизни и, я думаю, большая часть смысла ее жизни. По крайней мере, той, что выпадет на нашу долю.
И когда порой, прижимая ее к себе, я закрываю на секунду глаза, мне кажется, что это я сам — ребенок в объятиях моей молодой матери, а когда я их вновь открываю и вижу Лауру, мне кажется, что пролетел всего лишь миг. Впредь мне следует держать глаза широко отрытыми, потому что боюсь, что если я их опять закрою, то, открыв их в следующий миг, я буду уже стариком.
Сегодня Лаура — самый сильный импульс моей утекающей жизни, но и самый манкий из всех, которые я мог бы себе представить.
Я часто хожу с ней гулять, в то время как Элиза занята работой, и, признаюсь, нам не скучно друг с другом, потому что у нос куча совместных дел, которые надо переделать. Мы все-таки в Нью-Йорке, не знаю, понимаете ли вы меня.
А когда когда мы устаем, то есть когда устаю я, мы направляемся к маленькому озерку в южной части Центрального парка наблюдать за утками. Мы усаживаемся на скамейку, смотрим на уток и задаемся вопросами, откуда они прилетают, а когда озеро замерзает и уток нет, то куда они улетают.
И еще мы обсуждаем множество разных вопросов, и я использую эту ситуацию, чтобы вести с Лаурой философские беседы. Элиза говорит, что я фанатик, что никому в голову не пришло бы вести философские беседы с трехлетней девочкой, что это еще очень рано. А по-моему, не рано. И я же не объясняю ей теорию познания Канта или феноменологию Гегеля. Я ограничиваюсь тем, что растолковываю ей два-три базовых понятия, типа сюжета о пещере Платона (она ей безумно нравится) или кое-какого простенького Аристотелева силлогизма, для того чтобы научить ее мыслить.
Если согласиться с Элизой, так еще рано и для блюза. Несколько дней назад Элиза удивила меня, когда я надел на Лауру наушники, чтобы та послушала Devil In My Closet Джона Кэмпбелла.
— Франческо, — сказала она гневливо, — я тебе в последний раз говорю, прекрати напяливать на нее наушники, ты хочешь, чтобы у нее пропал слух? И эта музыка не для нее.
— Почему это не для нее? Тогда какого рожна вчера, что-бы пробудить у нее аппетит, ты заставила меня играть ей на басу Smoke On the Water?
Элиза замолчала. Я выключил музыку и снял с Лауры наушники. После чего уставился на Элизу, ожидая ее реакции. Ее не последовало. Элизе нечего было мне ответить, потому что это была сущая правда.
Через месяц — Рождество. Мы возвращаемся в Италию. Так захотела Элиза. Три года в Америке могут надоесть кому угодно. Да и я практически закончил с новым диском, через месяц он выходит, остались только заморочки с промоушеном, чем я не хотел заниматься, доверив это ребятам из звукозаписывающей компании. Они организовали все наилучшим образом: ТВ, радио и предстоящее летнее турне. Я был доволен ими.
Я рад тому, что возвращаюсь домой. Кто-нибудь когда-нибудь мог бы подумать такое?
Элиза чувствует себя неважно, жалуется на усталость, у нее часто поднимается температура, последствие перенесенного на ногах жестокого гриппа. Несмотря на это, она бегала на интервью, а вечерами строчила тексты для своей колонки в газете. Она даже немного похудела. Ест мало и через силу. Плюс заботы о работе, ребенке и о моей бесполезной персоне, от которой в доме мало толку.
Как только приедем в Италию, надо будет показать ее врачу. А чтобы дать ей немного роздыха — нанять постоянную бебиситтер, хотя бы против воли Элизы.
Вторая часть
XII. Лаура
Новообразование в легких. Рак. Боже мой, она ведь даже не курила! Я узнала об этом, когда пошла забирать ее анализы, компьютерную томографию и все прочее.
Элиза ни о чем не догадывалась. Ее изматывали смертельная усталость и невысокая, но постоянная температура. Франческо десять дней как не было в городе: уехал на презентацию диска. Никто же не ожидал такого.
Бронхит. Такой диагноз поставил врач-идиот после первого визита. Позже, когда он увидел, что у Элизы анализы настолько безнадежны, он перепугался и назначил несколько спешных контрольных обследований.
— Ничего нельзя поделать, — сказал мне мой друг-профессор. — Сожалею, но уже ничем не помочь. Метастазы повсюду. Она неоперабельна. Химиотерапия бесполезна. Если я подвергну ее агрессивному курсу лечения, мы только, причиним ей лишние страдания, без какой-либо надежды на реальный позитивный результат. У молодых, когда это случается, все так и происходит: торопятся, носятся, спешат жить, не щадя себя, бегут за славой… Шесть месяцев, не больше, Лаура. Мне очень жаль. Старайтесь быть рядом с ней. Я посмотрю, что можно сделать, чтобы облегчить боли, и пошлю вам опытную медсестру.
Я вышла из кабинета врача, шатаясь будто пьяная. Какое-то время брела, не выбирая дороги, убитая горем. Вошла в бар, выпила что-то крепкое, чтобы придать себе храбрости, и позвонила Франческо. Он был в Риме. Он так и не завел мобильника, он их терпеть не может, специально потерял три штуки. Поэтому я набрала номер одного из его музыкантов и попросила передать ему трубку.
— Франческо, будет лучше, если ты срочно вернешься в Милан. Есть проблемы.
— Какие? Что случилось? Девочка заболела?
— Нет, речь об Элизе.
Я все ему объяснила, плача, еле слышным голосом. Он молча выслушал, затем сказал:
— Не говори глупостей. Врачи ошиблись. Элиза не умрет. Это я тебе говорю.
Через четыре часа он был в Милане. Я приехала за ним в аэропорт, и он сразу же попросил отвезти его к профессору. Он хотел все услышать от него лично. Он не поверил даже ему, волновался, переспрашивал, искал в его словах малейшую надежду, которую тот не мог ему дать. После чего мы поехали к нему домой. Всю дорогу мы молчали.
— Мы скажем ей? — спросила я, выходя из машины.
— Нет. Ни в коем случае. Завтра поговорим еще с кем-нибудь, может, найдем кого-то, кто подскажет выход. Может, ее прооперируют, может, не все так ужасно. Я убежден, что не все так ужасно. Ты можешь представить, что Элиза умрет? Все, хватит, не будем ей говорить обо всех этих глупостях.
Однако, едва мы вошли в квартиру, Элиза, посмотрев Франческо в глаза, которые он отводил в сторону, не в состоянии выдержать ее прямого взгляда, все поняла.
— Сколько мне осталось жить? — спросила она дрогнувшим голосом.
— Столько, сколько захочешь сама, — отвечал Франческо.
Она почти не испытывала болей. За исключением последних пятнадцати дней. Эти дни были переполнены страданиями. Медсестра колола ей огромные дозы морфия, но иногда и они не помогали.
Франческо страдал наравне с ней. Он был одно сплошное страдание. Как-то ночью, когда у Элизы случились особенно сильные судороги, Франческо прямо обезумел. Это был кошмар. Утром он спросил меня, не смогла бы я прийти к ним на уик-энд, чтобы помочь ему и побыть немного с Лаурой. Флавио забрал детей к себе. Медсестра отпросилась на пару дней и должна была вернуться следующим утром. Я приехала. К двум часам ночи Элиза уже беспрерывно жаловалась на боли. У нас не осталось ни одной ампулы темджезика, и мы позвонили в «скорую». Франческо объяснил ситуацию. Приехал дежурный фельдшер. Но и у него темджезика тоже не оказалось. Он настаивал на том, чтобы дать бускопан. Франческо психанул, посоветовав фельдшеру засунуть бускопан себе в задницу (так и сказал), и потребовал дать ему рецепт на морфий, чтобы сбегать за ним в аптеку, но фельдшер отказался, заявив, что для этого средства нужен специальный рецепт, который может выписать только врач. Франческо не желал слушать никаких резонов и продолжал настаивать на своем, теряя терпении. Если бы я не вмешалась, он задушил бы фельдшера. Кончилось тем, что он вышвырнул из дома и фельдшера, и санитара под крики Элизы, обезумевшей от дикой боли. Было три часа ночи, когда Франческо позвонил моему другу-профессору, помчался к нему, заставил выписать рецепт, нашел дежурную аптеку и в полчетвертого уже был дома с морфием. Он сам сделал укол, чего ни разу в жизни не делал. Я перестала понимать, на каком я свете. Рассказывать об этом — и то ужас. Элиза кричала от боли, Франческо матерился и кричал тоже, звонил профессору, убегал, возвращался, ставил очередной укол… Это был сущий кошмар.
За два дня до смерти Элиза впала в кому. Прошло ровно шесть месяцев, как и предсказывал мой друг. Эти два дня Франческо сидел возле нее, не отпуская ее руки, не ел, ни разу не заснул, ни разу не поднялся со стула.
До самого последнего мгновения Франческо надеялся, что Элиза выкарабкается.
— Плевать мы на него хотели, на этого ракового ублюдка, увидишь, мы справимся, мы сильнее его, — говорил он Элизе, когда видел, что боль отступала. А замечая, что она слабеет, говорил: — Не будем отчаиваться, подумаешь, какая-то небольшая опухоль.
Элиза улыбалась ему с подушек, трогательная, бледная, исхудавшая и очень красивая. Как всегда, очень красивая. Болезни, которая отнимала у нее жизнь, не удавалось исказить ни ее красоты, ни ее улыбки. Странной улыбки, которую невозможно описать словами.
В первые дни болезни она еще держалась. Но очень скоро ее внешность стала вызывать у нее сначала досаду, а потом и ненависть. Усиливавшаяся худоба доводила ее до паранойи. Она спрятала все свои фотографии и начала ходить в ванную для прислуги, где не было зеркала. Когда она по-настоящему поняла, что ее участь предрешена, перепуганная, она потеряла контроль над собой. Обижалась на всех, на меня, на Франческо и особенно на Бога. Потом наступил перелом. Она смирилась, успокоилась, обрела в себе какие-то силы и даже осмелилась взглянуть на себя в зеркало. Всего один раз. Это было при мне. Я сопровождала ее в ванную, она сама попросила меня об этом — не потому, что была настолько слаба, что едва держалась на ногах, а потому, что рассчитывала, что я не позволю ей посмотреться в зеркало. Когда она себя в нем увидела, она замерла на полминуты, провела пальцами по впавшим щекам, слегка распахнула халат и после этого повернулась ко мне:
— Хватит, пошли отсюда. Мне не хотелось умереть, не посмотрев на свое лицо. Будем надеяться, что там, куда я уйду, я буду походить на себя прежнюю. Мне неприятна мысль о том, что я навечно останусь такой худой.
И улыбнулась. И с тех пор все время улыбалась этой своей странной улыбкой, становившейся все более прекрасной.
Франческо плакал. Последнее время он плакал всякий раз, когда выходил из ее комнаты. Он старался, чтобы малышка Лаура не видела этого, но в моем присутствии не сдерживался и рыдал в голос. Так же, как рыдала я, когда за два месяца до смерти Элизы они официально поженились. В этот день Элиза была так счастлива, что казалась выздоровевшей. На церемонию они пригласили шесть человек: родителей, Флавио как свидетеля со стороны Франческо и меня, которую захотела видеть своей свидетельницей Элиза. Я помню, как она сказала мне:
— Это совсем не та свадьба, какой я ее представляла, но я все равно счастлива.
Франческо был вне себя от радости, видя, что Элиза хорошо себя чувствует.
— Если ты дашь мне слово быть всегда такой, я буду жениться на тебе каждый день, — прошептал он ей.
Неделю спустя началось быстрое угасание. Она так больше и не оправилась.
Кок только все кончилось, Франческо сломался.
Он не явился на похороны, попросив только, чтобы Элизу погребли в семейном склепе, и, насколько мне известно ни разу не был на кладбище.
Малышка Лаура ничего не знала и не понимала. Она все время была со мной, засыпая меня разными вопросами.
Франческо больше не существовало. Первое, что он сделал, — покончил с музыкой.
— Не ждите меня, я больше никогда не буду играть, я больше никогда не буду писать, — обратился он к своим товарищам по группе. — Вам нет смысла ждать меня. Ожидая меня, вы только потеряете время. Мне больше нечего сказать людям.

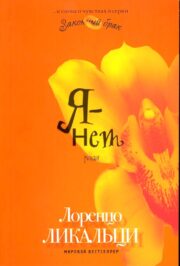
"Я — нет" отзывы
Отзывы читателей о книге "Я — нет". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Я — нет" друзьям в соцсетях.