Мне позвонили из палаццо Фарнезина[38] по просьбе итальянского посольства в Найроби и сказали, что я должен прилететь на опознание, поскольку они до конца не уверены в том, что погибший — мой брат. Они нашли документы, но необходимо опознать труп, так как документы могли быть украдены тем, кто погиб в авиакатастрофе, или кем-то еще. Такое случается. Такое могло произойти.
Лауре я ничего не сказал. Подожду, пока не удостоверюсь сам. Лауре известно, что я летаю в Африку каждый месяц. Так что мой отлет не должен вызвать у нее никаких подозрений. С тех пор как пришла от него телеграмма, она пребывает в состоянии глубокого внутреннего блаженства. Но именно сегодня утром, хотя уже можно сказать, вчера утром она позвонила мне, почему-то встревоженная, и спросила, нет ли новостей о Франческо. На ту минуту никаких новостей у меня не было. Я узнал о случившемся спустя пару часов. Я тотчас вылетел: на мое счастье, оставался непроданным один билет. Сейчас я в самолете. Скоро мы приземлимся. На часах — три ночи. И если у меня еще остались силы перебирать происшедшее, то это лишь потому, что у меня остается надежда: это не он. Больше того, я чувствую, что это не он. Это не может быть он.
Светает. Я спускаюсь по трапу, возле которого меня ждет сотрудник посольства. Он в белом мятом костюме и при галстуке. В руках папка, на которой написано «Докт. Масса». В его облике покорность судьбе, он сонный и потеет. В самом деле жарко, очень жарко, несмотря на ранний час. Раскаленный воздух неподвижен. Трудно представить, что в Милане лежит снег. Я тоже мгновенно покрываюсь потом, но не от жары. Меня сотрясает мелкая дрожь, мурашки бегут по коже.
Мы садимся в «лендровер». Едем, почти не разговаривая, в госпиталь. Я смотрю по сторонам. У меня чувство, что я реально отсутствую, а все, что бежит у меня перед глазами, я вижу на киноэкране. Негры, бродячие собаки, и те, и другие высушенные голодом и болезнями, редкие туристы, шатающиеся от усталости или алкоголя, запыленные автомобили, дома в колониальном стиле, небоскребы, бараки, тележки, мусор, вонь, шум, буйство красок, все по отдельности и все вместе. Я еще надеюсь, что Франческо жив, что он где-нибудь в дальнем уголке нашей планеты, далеко отсюда, далеко от этого кошмара.
Мы приезжаем в госпиталь, в котором африканского намного меньше, чем можно было бы думать, во всяком случае, африканского в нем не больше, чем в некоторых итальянских госпиталях. Я ловлю себя на этой мысли, и меня удивляет, что я могу размышлять об этом именно сейчас, вероятно, говорю я себе, таким образом мозг, цепляясь за любой повод, защищается от страданий.
Тип из посольства молча и уверенно идет впереди меня.
Я иду следом, переставляя ноги как автомат. Мы быстро минуем ряд холлов и коридоров, уставленных носилками, провисающими под весом лежащих на них больных. Из открытых дверей палат доносятся хрипы, стоны, непонятные восклицания на суахили. С черных лиц, по которым нельзя прочесть возраст, на меня уставились белки глаз, блестящих от температуры, ничего не видящих, потому что собственная боль сильнее любопытства.
Мы пришли. Узкая дверь зеленого стекла отделяет меня от финальной сцены. Мне хочется, чтобы дверь не открывалась.
Но нет, скрипя петлями, она распахивается, впуская нас в холодную комнату. Острый запах формальдегида забивает мне бронхи. В углу комнаты, вытянувшись в маленьком железном креслице, дремлет негр-служитель. В центре мраморный стол, на нем серая простыня, под которой угадываются контуры неподвижного тела.
Я впиваюсь в нее взглядом, оценивая видимые мною очертания тела, скрытые тканью, и испытываю облегчение; худоба, а главное, рост не соответствуют Франческо. Лежащий на столе человек на десять, нет, на пятнадцать сантиметров короче моего брата!
Служитель просыпается, здоровается с нами кивком головы, встает и, не произнеся ни слова, устало направляется к столу. Звук его шагов по облицованному плиткой полу грохотом отдается в моей голове. Тип из посольства что-то говорит негру на суахили, и тот стягивает простыню только с лица трупа, после чего смотрит сначала на меня, затем на типа из посольства. Тот качает головой и показывает, чтобы он открыл труп до пояса.
Я закрываю глаза. Перед мысленным взором возникает Франческо. Вот он родился — я физически ощущаю то чувство ревности, которое тогда пережил. А вот ему три года, шесть лет, первый день в школе, в немецкой школе, куда наш отец заставил нас ходить, Франческо, вцепившись в мою руку, выглядит напуганным. Вот он ссорится с отцом, отказываясь учиться в этой школе. Вот он лицеист. Вот он смеется. Вот он рыдает у тела Элизы. Я явственно вижу его в каждый момент нашей жизни. Но прежде всего я слышу его, в моих ушах бьется его крик: «Я — нет!», — наполненный тем же отчаянием, какое я услышал в этом крике в первый раз. Тогда ему было уже три года, а он все еще не разговаривал. Он не мог говорить. Папа водил его по врачам, боясь, что у него какая-то аномалия. Однако медики не нашли никаких отклонений, он был нормальным ребенком, активным, даже чересчур, только не разговаривал. В тот день мы всей семьей сидели за столом, и он увлеченно занимался тем, что пытался наполнить пластиковый стакан катышками хлебного мякиша. Ангел, да и только! Мы спокойно обедали, как вдруг, будто охваченный вспышкой ярости, он запустил стакан в стену и закричал: Я — НЕТ! И с этого дня он начал разговаривать, а шесть месяцев спустя полностью наверстал потерянное время. И почти в течение года, без какой-либо видимой причины, похоже, что в насмешку, он постоянно твердил: «Я — нет». В эту минуту в моем мозгу нет ничего, кроме этого крика: «Я — нет!» И я перестаю понимать, кому он принадлежит, голос ли это Франческо-ребенка или, наоборот, мой, это я наконец выплюнул кляп и кричу: я нет я нет я нет я нет я нет я нет я нет я нет я нет я нет я нет я нет я нет я нет я нет я нет я нет я нет я нет я нет…
— Хотите, чтобы мы еще немного подождали, доктор Масса? — спрашивает тип из посольства.
Я отрицательно качаю головой.
Открываю глаза. Яркий неоновый свет ослепляет меня, я инстинктивно прищуриваюсь. Руками вцепляюсь в ляжки, пытаясь унять дрожь, сотрясающую мои ноги.
Смотрю на труп и ничего не понимаю. Я не понимаю даже, что это мужчина. Вглядываюсь пристальнее. Это не он. Боже святый, это не он!
— Это не он! — Я заставляю себя произнести это как можно решительнее.
Мне действительно кажется, что это не он. Это вообще не кажется мне человеком, это больше похоже на кусок обугленного дерева.
— Посмотрите повнимательнее, доктор Масса, так часто бывает. Родственники настолько надеются, что это не их близкие, что не видят даже очевидных вещей. Именно по этой причине мы позвали вас, а не его родителей. Родители менее заслуживают доверия, извините, что я говорю вам такое, но это важно.
— Что вы от меня еще хотите? Я посмотрел! Это не он что еще я должен вам сказать? — Я едва сдерживаю ярость.
— Вы уверены в этом? — спрашивает меня посольский без капли эмоций.
— Как я могу быть уверен, черт побери?! Как я могу быть уверен?! Что здесь можно увидеть? Это может быть кто угодно, я, вы… Во всяком случае, это не он! Да, я уверен, что это не он!
Ненависть. Я ненавижу этого человека, который стоит передо мной и требует от меня, словно это самая обычная вещь на свете, опознать в обугленном мертвеце моего брата. Я ненавижу этот труп, чужой мне. Я ненавижу Франческо, который болтается где-то по миру, или, может быть, он уже в Милане с Лаурами, большой и маленькой, и теперь ждет меня.
— Мой брат ростом с меня, а этот… — говорю я громко.
— Гм… Доктор Масса, не нервничайте, пожалуйста, вы усложняете ситуацию. Я не хотел бы озвучивать жуткие подробности… но… ноги… мы нашли не все фрагменты ног, мы их сложили, но… В целом, уверяю вас, он в хорошем состоянии, вы даже не можете себе представить, какие иногда бывают… Они упали рядом с населенным пунктом, где даже есть подобие взлетной полосы, вероятно, они пытались сесть там… Тела нашли через несколько часов… так что зверье не успело… А скажите, у вашего брата имелись какие-либо отличительные черты… шрамы, родимые пятна, татуировки?..
— Да, у него была татуировка. На левом плече, — говорю я и изо всех сил желаю, чтобы на плече трупа не оказалось этого ужасного вопросительного знака. — Я же вам сказал, что это не он! Посмотрите на плечо, на нем нет никакой татуировки!
Он смотрит. Я смотрю тоже. Татуировки нет.
— Удостоверились? Лично я да, и оставьте меня в покое, пожалуйста!
Я поворачиваюсь и направляюсь к выходу, я хочу поскорее уйти из этого места, зная, что это не он, ведь нет же никакой татуировки.
За моей спиной посольский просит:
— Задержитесь еще на секунду, доктор Масса.
Он что-то тихо говорит негру, все это время молча стоявшему у стены. Взявшись за ручку двери, я оборачиваюсь и вижу, как негр переворачивает труп на другой бок, так чтобы было видно другое плечо, и, включив галогеновую лампу, направляет ее свет на труп. Острый луч ударяет в почти целиком сожженное плечо. Он ударяет в меня. Тип из посольства нагибается, вглядывается в освещенное место, прищуривается, фокусируя взгляд.
Сердце у меня бешено колотится в груди, доставляя острую боль. Единственное, что сейчас я чувствую, — его глухое неистовое биение. Я не ощущаю жары, я не ощущаю холода, я больше не дрожу, я больше не думаю. Я ощущаю только свое сердце, я ощущаю его везде: в висках, в солнечном сплетении, в горле. Оно повсюду. Я сам — собственное стучащее сердце.
— Доктор Масса, татуировка не в форме вопросительного знака? — спрашивает посольский.
— Да, это вопросительный знак. Примерно сантиметров пять. Я вам говорил.
— Нет, вы мне не говорили, доктор Масса. Подойдите сюда, пожалуйста. Посмотрите.
Как то есть я ему не говорил? Конечно, я ему говорил! Этот засранец поверил в то, что увидел именно ее, потому что я ему сказал о ней, а на самом деле там нет и не было никакой татуировки! Это просто я ему об этом сказал!
Я сказал ему это? Я ему сказал или нет?
Я подхожу, едва переставляя ноги, теперь они опять дрожат, я наклоняюсь, слегка касаюсь пальцем плеча, будто хочу очистить его от тонкого налета сажи… и вижу…
Я хотел бы стереть ее, но я ее вижу. Эту забавную, дурацкую татуировку.
Удар в солнечное сплетение. Неожиданный, болезненный, опрокидывающий ничком. Я в самом деле, переламываюсь пополам, утыкаюсь лбом в плечо моего брата и плачу.
Я этого никогда не делал. Тем более на плече моего брата.
Мы в самолете, который несет нас домой. Это было нелегко организовать, им надо было сделать вскрытие, потом вся эта бюрократическая тягомотина. К счастью, у меня в Найроби хорошие знакомства. Пришлось заплатить для ускорения всех процедур. Теперь Франческо летит со мной.
Мы возвращаемся в Милан.
Это были ужасные дни. Кроме всего прочего, мне нужно было решать еще и вопросы, связанные с моим бизнесом. Зато я получил объяснение того, почему они летели ночью. Полиция провела тщательное расследование и выяснила, что они должны были вылететь в два часа дня, но перед самым взлетом обнаружилось, что барахлит один из моторов. Они принялись его ремонтировать, то есть пилот начал ремонтировать. Но он же не механик, как уж там он его отремонтировал… Они взлетели, когда начало темнеть. Франческо бы подождать следующего утра или полететь другим самолетом, но в Найроби самолет ждали шесть туристов, которые должны были полететь на остров обратным рейсом, и хозяин гостиницы не желал слышать никаких резонов: самолет должен забрать туристов и вернуться хоть глубокой ночью, с какой стати тратить триста долларов из своего кармана на их ночевку в Найроби…
Франческо не имел никакого касательства к этой истории. Он был просто пассажир. Мой брат погиб из-за того, что владелец этой гребаной гостиницы не захотел потерять триста долларов!
Но кажется, что в его смерти есть и моя вина. Секретарша моего офиса в Найроби сказала, что в прошлую пятницу Франческо позвонил ей, чтобы узнать, когда я буду в городе. Ну понятно — он летел в Найроби из-за меня, наверняка хотел сделать мне сюрприз, чтобы вместе вернуться в Милан. А как было бы здорово! Он и я, вместе в Найроби после стольких месяцев разлуки! Как много мы могли бы сказать друг другу! Я рассказал бы ему о себе, о малышке Лауре и ее музыкальных успехах, о том, насколько изменилась старшая Лаура, став по-настоящему близкой ему, Франческо, об отце, который в последнее время очень плохо себя чувствует, и мы боимся, что он долго не протянет, о том, что он постоянно спрашивает про него, все время про него, каждый день, каждый день… А он, Франческо, рассказал бы мне о своем путешествии, о людях, с которыми познакомился, обо всем, что делал, думал, слышал. Я уверен, мы поговорили бы и о нас, чего никогда прежде не делали. Я рассказал бы ему о своей ревности, которую испытывал с момента его рождения и позже, когда он рос, когда вся любовь мамы принадлежала ему, а папа — даже папа! — смотрел на него так, как никогда не смотрел на меня, а он этого не замечал. Засранец! Неправда, что он доставлял мне только заботы и раздражение, я знал, что без него моя жизнь была бы совсем иной, и я признался бы ему, что если я в конце концов, чего-то добился, то обязан этим и ему тоже. Потому что, если б не существовало этого чудака, который по любому поводу твердил «я — нет», я никогда бы не говорил «я — да». Мы вместе бы посмеялись, мы могли бы отпраздновать его сорокалетие, которое наступило меньше месяца назад. Мне представилась сцена: мы двое в баре, я в пиджаке и галстуке, он в джинсах и майке… Я говорю, что ему пора подстричься, а он отвечает, что мне пора повзрослеть… Может даже, мы крепко напились бы… Да, нам не помешало бы крепко выпить…

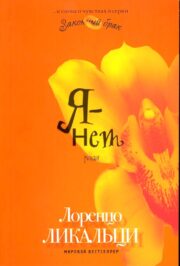
"Я — нет" отзывы
Отзывы читателей о книге "Я — нет". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Я — нет" друзьям в соцсетях.