Между прочим, танцевала на премьере «Павильона Армиды» все же Каралли, потому что у Павловой был в это время спектакль в Вене, тамошний контракт она предпочла парижскому. Из тех же газет мы узнали о страшном гневе Дягилева, а потом – о разрыве Веры Каралли с ее давним любовником Леонидом Собиновым. Вернее, о разрыве Собинова с Каралли.
Но эти скандалы, как ни были пикантны, нас с maman уже не слишком интересовали, потому что жизнь предоставила нам новую и куда более оригинальную пищу для воображения и удивления. Однажды, возвращаясь в таксомоторе из театра Шатле с очередного спектакля (уж и не припомню, на чем именно присутствовали), мы увидели какую-то совершено невероятную процессию. Это были полуголые люди – некоторые молодые и красивые, некоторые толстые и старые, однако все они были одеты нелепейшим образом, в какие-то шкуры и венки, словно изображали пещерных людей.
– О, простите, медам, – с отвращением сказал шофер, останавливаясь, чтобы пропустить процессию. – Мне стыдно за некоторых парижан… Ежегодный выпускной бал в Высшей художественной школе всегда превращается в сущее безобразие. Пьют свыше всякой меры, совершенно теряют разум, и я даже слышал – пардон, сто тысяч раз пардон! – что они открыто творят по углам самые непотребные непотребства. Вы только посмотрите на них! Ах нет, лучше не смотрите!
Но мы не могли не смотреть. Мы увидели, как из безобразной, пьяной толпы вдруг вырвались два человека. На голове одного был белокурый парик с косицами, на другом – соломенная шляпа аркадского пастуха, очень напомнившая мне ту, которую я видела на Нижинском в балете «Дафнис и Хлоя». Более – никакой одежды, кроме пары леопардовых клочков на плечах. Вся она была изорвана в клочья, коими размахивали полуголые подгулявшие художники.
– Боже! – воскликнула вдруг maman. – Да ведь это же князь Юсу…
И прикусила язык, покосившись на меня. Но я тоже узнала его!
Феликс, в самом деле! Стройный, обнаженный, в этой дурацкой аркадской шляпе, он был пьян и даже не слишком стыдился своей наготы, небрежно отмахиваясь от тянувшихся к нему похотливых, тоже пьяных лап.
Мы с графиней Камаровской, которая нас, конечно, сопровождала, были ну просто страшно скандализованы, у меня даже слезы выступили на глазах от ужаса и от непонятной обиды, как будто оскорбление было нанесено лично мне. Как он позволяет этим людям смотреть на себя, хватать себя?! И вдруг maman начала хохотать и хохотала так, что тоже дошла до слез, только развеселых. И я, посмотрев на нее, вдруг подумала доверчиво, что, может быть, и в самом деле ничего страшного не происходит? Ну, веселятся люди и веселятся…
– Ого, – сказала maman, – а ведь с ним не соскучишься!
Она оказалась права: много чего я испытала в жизни с Феликсом, и любила его, и ненавидела, и обожала, и презирала, но вот скучно с ним мне не было ни дня, ни часу, ни минуты!
Долго еще эта нагая стройная фигура маячила в моих девичьих сновидениях, смущая меня, но отнюдь не возмущая. Уже тогда я понимала, что многое смогу ему простить – если не вообще все.
Феликс нас, понятное дело, не заметил, а я никогда ему о том случае не напоминала: думаю, он не простил бы мне, что я повстречала его в столь постыдном виде. Потом из его же записок я узнала, что в компании с ним был его приятель, художник Жан Бестеги, который и привел его на этот бал, а шляпа… да, это и впрямь была шляпа из балетного реквизита Нижинского. Так же как и леопардовая шкура, тоже взятая взаймы у Нижинского и превратившаяся в клочки, которые остались валяться где-то на парижской мостовой.
Между прочим, в эти годы разгульного дебоширства Феликс впервые повстречал свою будущую жертву. О моих собственных впечатлениях от знакомства и нескольких встреч с Г.Р. я расскажу позднее, поскольку она произошла уже после моего брака с Феликсом. Он же тогда был холост и искал любой возможности если не повеселиться, то хоть как-то разнообразить свое существование.
Не ручаюсь, как всегда, за правдивость оценок, которые дает мой муж тем людям, которых встречал в жизни, но соглашусь, что Г.Р. произвел на него очень сильное впечатление… впрочем, оно было взаимным. Феликс так писал в своих заметках к книге мемуаров (собственно, по этим заметкам я все и цитирую, ибо их еще не касалась рука редактора, в них больше точности):
«Я вернулся в Петербург на Рождество, которое собирался провести с родителями, затем намеревался вернуться в Оксфорд. Я давно был дружен с семьей Г., вернее, с их младшей дочерью. Она была страстной поклонницей «старца Григория». Чистая, наивная, восторженная девушка не могла понимать всей его низости, коварства, развратности. Она верила, что старец обладает великой силой духа, что он послан очищать грешные души, исцелять духовные страдания, направлять наши мысли и поступки на добро. Я скептически выслушивал ее восторженные речи. Сам не знаю почему, я смутно ощущал душок шарлатанства, впрочем, дифирамбы мадемуазель Г. пробудили мое любопытство к этому «новому апостолу и посланнику неба», как она его называла, проводившему жизнь в посте и молитве и не совершившему ни единого грешного поступка. Кому бы не захотелось познакомиться с таким невероятным человеком? Захотелось и мне. Г. пригласила меня на семейный вечер, где ожидался и «старец».
Когда я вошел в дом, мать и дочь сидели в гостиной возле чайного стола с таким выражением на лицах, словно ожидали прибытия чудотворной иконы. Наконец быстрыми, частыми шажками вошел Распутин. Первым делом он приблизился ко мне, сказал: «Здравствуй, душа моя!» – и не руку протянул, как следует при знакомстве, а потянулся с явным намерением облобызаться. Я невольно отпрянул. Распутин ухмыльнулся недобро и взамен меня с покровительственным видом расцеловал хозяек. У них было такое выражение, словно они сподобились благодати! А на меня он сразу произвел отталкивающее впечатление.
Был он среднего роста, худощавый, но крепкий, мускулистый, вот только руки казались чрезмерно длинными. Волосы всклокочены. На лбу виднелся шрам – сохранившийся, как я узнал позже, со времен разбойничьей жизни. Выглядел Распутин лет на сорок со своим грубым лицом, неопрятной бородой, толстым носом. Водянисто-серые глазки неприятно поблескивали из-под нависших бровей, взгляд его было невозможно поймать, если он сам не хотел на вас уставиться. Одет Распутин был в кафтан, шаровары и высокие сапоги – этак попросту, по-крестьянски. Держался он непринужденно, но угадывалось, что лишь играет в спокойствие, а сам побаивается, ежится и поэтому исподтишка следит за собеседником.
Посидел он за столом недолго, вскочил и принялся сновать по гостиной, что-то глухо бормоча. Мне казалось – сущая нелепица, но барышня Г. внимала восторженно.
Конечно, мне было очень любопытно вблизи созерцать эту знаменитую и загадочную фигуру. Он почуял мой интерес и подсел поближе, поглядел испытующе. Началась беседа – о вещах самых общих. Речь его была не вполне связна, словно внимал словам свыше, а потом выговаривал их, так и сыпал цитатами из Евангелия, но и не к месту, и смысл перевирал, так что ощущение невнятицы и нелепицы усиливалось.
Я слушал и внимательно его рассматривал, пытаясь понять, как удалось тому лукавому, похотливому – это было иногда видно по выражению лица, когда он поглядывал на женщин, по слащавой улыбке, – простенькому мужичку забрать такую власть. Конечно, все дело было в этих глазах, близко посаженных к переносице. Заглянуть в них, как я уже говорил, было непросто, но если Распутин сам цеплял тебя взглядом, то словно веревками опутывал и в то же время иглы в тебя втыкал. Страшно тяжелый, давящий и пронизывающий взгляд! Хитроватая, лживая улыбка. При виде ее так хотелось сказать: «На языке мед, а под языком – лед…» А между тем хозяйки, и мать, и дочь, не сводили с него глаз и внимали каждому слову как откровению.
Наконец Распутин встал и, обращаясь ко мне, сказал, указывая на мадемуазель Г.: «Она тебя очень хвалила. Вот тебе верный друг, вот тебе духовная жена! Вы, сразу видно, друг друга достойны. Слушайся ее и меня – и далеко, друг милый, пойдешь, очень далеко».
После этого он ушел, а я почувствовал, что, при всех своих странностях, при всем том неприятном и пугающем, что от него исходило, Распутин произвел на меня неизгладимое впечатление! Спустя несколько дней Г. сообщила, что он желал бы со мной увидеться вновь».
Та женщина, которую Феликс называет мадемуазель Г., – это Мария Евгеньевна Головина (свои звали ее то Маня, то Муня, один Г.Р. – Машенькой), дочь камергера Евгения Сергеевича Головина, одна из самых пылких поклонниц новоявленного пророка. Как, впрочем, и ее мать, Любовь Валериановна. Феликс ни словом не обмолвился в своей книге о том, что связывало его с Муней. Почему – не знаю. Наверное, по своей противоречивой натуре! Мне кажется это молчание ошибкой, поэтому я открою правду. Муня доверяла Феликсу потому, что в былые времена была безответно влюблена в его покойного брата Николая. Николай не обращал на нее внимания, он был самозабвенно увлечен Мариной Гейден, из-за чего и погиб.
В те времена Муня засыпала Феликса письмами такого рода:
«Мне хотелось еще раз помолиться около него. Сегодня прошло две недели этого страшного горя, но оно все растет, не уменьшается, хуже делается на душе с каждым днем».
После гибели Николая она смотрела на Феликса как на родного человека:
«Я так дорожу моей духовной связью с прошлым, что не могу смотреть на Вас, как на чужого… Я никогда так ясно не сознавала, как сейчас, что вся радость жизни ушла навсегда, что ничто и никогда ее не вернет…»
Муня решила уйти в монастырь. Мать была в ужасе. Однако на помощь пришли родственники.
Дело в том, что Муня некоторым образом не чужая нашему семейству, Романовым. Ольга Валериановна Пистолькорс, ради которой мой дядя, великий князь Павел Александрович, потерял голову, была теткой Муни Головиной! У Ольги Валериановны имелись до брака с великим князем дети от первого мужа. Дочь Марианна, по мужу Дерфелден, была в дружеских, доверительных отношениях с Феликсом. Вообще она была и со всей нашей семьей дружна, ее и наша дочь, Бэби, Ирина-младшая, очень любила. Подозреваю, что в основном из-за роскошного имени, которое малышка очень старалась выговорить, да никак не могла: выходило то «Малиана», то запросто – «Маланья». С ее трудной фамилией вообще что-то страшное получалось! Феликс над этим страшно хохотал и в приватных разговорах часто звал Марианну Дерфелден – Маланьей Деревянной. Она много помогла нам в том деле, к рассказу о котором я так медленно подступаюсь. А вот сын Ольги Пистолькорс Дмитрий был совершенно очарован Г.Р., как и его жена Александра, которую все звали просто Сана.
Сана была знакома с Г.Р. и считала его истинно святым, была уверена, что только он может утешить Муню в горе. Устроила ее встречу с Г.Р. Он сказал, что в монастырь идти не стоит, потому что Богу можно служить везде. Муня послушалась. Этим Г.Р. завоевал сердце ее матери, которая, конечно, не хотела для дочери монашеской участи, и с тех пор Любовь Валериановна стала вернейшей его адепткой.
Я достоверно знаю, что Г.Р. окончательно покорил Муню тем, что «вызвал» – она очень увлекалась столоверчением – «дух Николая», который уверил, что никого в жизни не любил так, как Муню, и любовь эта с ним за гробом, а в жизни мирской она теперь воплощена в Г.Р. Воистину говорите человеку то, что он хочет услышать, – и вы обретете его сердце… Бедняжка Муня это потом отрицала, чтобы обелить Г.Р., но она и замуж не вышла, и унижалась перед Г.Р., чему я сама была свидетельницей, и стала его секретарем и любовницей, и других женщин с ним сводила, в том числе свою сестру Ольгу, и ко мне они тянули грязные руки… Я Муню просто видеть не могла – с этим ее унылым выражением лживо-невинных фиалковых глазок, вечно в каких-то заношенных вязаных кофточках и кривых шляпочках, прилизанную… бр-р!
Как ни старалась Муня, как ни желал этого Г.Р., однако новая их встреча с Феликсом состоялась очень не скоро, потому что его скандальные похождения начали доводить княгиню Зинаиду Николаевну до нервных припадков. С ужасом видела она, как единственный обожаемый сын, оставшийся в живых ценой самой страшной жертвы (так она была убеждена), сознательно доводит себя если не до могилы, то до безумия. Она решила спасти Феликса тем, чтобы женить во что бы то ни стало. На ком?
На ком! Да в него влюблялись все поголовно. Даже моя строгая Котя называла его чарующим молодым человеком… В партиях недостатка, конечно, не было! Например, великая княгиня Мария Георгиевна, жена одного из моих дядей, великих князей, дочь греческой королевы Ольги Константиновны и моя троюродная тетушка, дружила с одной ирландкой – Матильдой Стекль. У нее была дочь Зоя, старше меня на два года. Как ни редко я посещала балы – maman меня совершенно не вывозила, никуда не сопровождала, за все мои светские выходы была ответственна графиня Камаровская, – я все же более или менее знала своих ровесниц, девушек на выданье. Знала и Зою Стекль, красивую истинной северной красотой. Этот тип называют иногда нордическим, и он ассоциируется с холодностью натуры. Однако Зоя вовсе не была холодной! Нет, ничего дурного я не хочу о ней сказать – она просто всех привлекала своим откровенно веселым нравом, таким отличным, между прочим, от моей сдержанности, застенчивости, порою даже дикости!

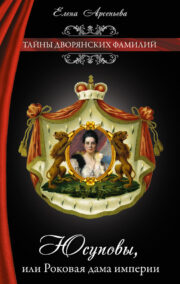
"Юсуповы, или Роковая дама империи" отзывы
Отзывы читателей о книге "Юсуповы, или Роковая дама империи". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Юсуповы, или Роковая дама империи" друзьям в соцсетях.