Нюта оглянулась – за столами сидели роскошно одетые женщины и важные мужчины. Таких юных дев, как она, не было и в помине. Она совсем расстроилась и окончательно смутилась. Ей казалось, что все смотрят на нее с усмешкой: плохо одетая девушка с пожилым мужчиной – что за пара? Дочь? Жена? Любовница? И как объяснить, что она – дочь фронтового друга, и только?
Заказ делал Яворский – она отказалась, сославшись на незнание грузинских блюд. Он улыбнулся и «принял огонь на себя».
Официант открыл бутылку красного грузинского вина – терпкого, сладковатого и очень вкусного. Потом принесли острый суп харчо и тарелку с соленьями – она впервые попробовала плотные и острые стебли черемши и красную гурийскую капусту.
На горячее был шашлык по-карски, и это тоже было так вкусно, что она не могла остановиться и снова смущалась – теперь своего аппетита.
Яворский ел мало, сдержанно, смотрел на Нюту с улыбкой и говорил, что хороший аппетит – признак молодости и душевного здоровья.
После ужина пили несладкий кофе, Нюте было горько, но Яворский учил ее пробовать его горечь на язык и ощущать, распознавать вкус и от этой горчинки получать удовольствие.
Он расспрашивал ее про учебу, интересовался ее увлечениями, а она снова терялась, и ей казалось, что увлечения ее бедны и скромны, а его вопросы лишь дань вежливости – ну какой ему интерес знать про увлечения какой-то соплюшки?
После второго бокала вина ей стало казаться, что вокруг все прекрасно, что дамы и их кавалеры вовсе не осуждают ее, а смотрят на нее доброжелательно, а то и вообще никому до нее нет дела. Еще ей показалось, что она держит приборы изящно, ест красиво, с расстановкой и умело держит бокал с вином. Она откинулась на спинку стула, совсем расслабилась и кокетливо заправляла за ухо все выбивающийся локон.
Когда они вышли на улицу, она увидела – словно впервые, – как прекрасен ее город. Как хорошо освещена улица, каким теплым светом светятся окна домов, как красивы и нежны друг с другом проходящие пары влюбленных.
Нюта, удивившись своей смелости, взяла Яворского под руку, и они пошли вверх по Горького, к Маяковке. И ей показалось, что она – совсем взрослая, совсем женщина. Которая может очаровывать, управлять, повелевать, приказывать и восхищать мужчину.
И это было оттого, что рядом с ней был именно мужчина. Она чувствовала это так отчетливо и так сильно, что сердце ее сладко билось, а тревога и смущение совсем ушли. Остались только гордость и уверенность – за себя и за него.
Они шли неспешно, как вдруг поднялся сильный пронизывающий ветер и начался дождь.
Он накинул ей на плечи пиджак, и они заторопились к метро, чтобы спрятаться от непогоды.
На площади Маяковского она глянула на уличные часы и испугалась – было полпервого ночи, и она заспешила домой, бормоча, что ей крепко влетит от родителей. Яворский тут же поймал такси, и через пятнадцать минут они остановились у Нютиного дома. Он вышел вслед за ней и объявил, что пойдет объясняться и, собственно, извиняться.
Она запротестовала – ей было неловко и даже стыдно, наскоро простилась и заскочила в подъезд. Лифт не работал, и она взлетела на пятый этаж и, не отдышавшись, коротко позвонила в дверь. Мать открыла тут же, словно стояла под дверью, хотя, наверное, так и было. Она тревожно оглядела дочь и покачала головой. Из своей комнаты выглянул хмурый и недовольный отец, оглядел ее сурово с головы до ног и коротко бросил:
– Нагулялась?
Она быстро закивала, что-то забормотала в свое оправдание, затараторила про спектакль, но отец оборвал ее и жестко бросил:
– Иди! В душ – срочно, ну а потом… Отдыхай. – И со вздохом добавил: – От трудов праведных…
После душа она тут же юркнула в постель, накрылась до самых глаз одеялом и почувствовала, как сильно дрожит.
Вошла мать, села на край кровати, погладила ее по голове и, тяжело вздохнув, сказала:
– Не придумывай ничего, Нюта! Совсем не тот случай.
Она горячо запротестовала, сделала обиженные глаза, отвернулась к стене, захлюпала носом, и мать вышла из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь.
А она, дрожа как осиновый лист, только сейчас осознала весь ужас и всю катастрофу происходящего – случай был, несомненно, не тот, но она уже влюбилась – окончательно и бесповоротно. Отчетливо понимая, что остановить себя, запретить себе уже не сможет. Ни за что и никогда.
И ей стало так страшно, что она заплакала – так горячо, так горько и безнадежно, как могут плакать только молодые влюбленные женщины. Влюбленные в первый раз – без всяких надежд на взаимность…
Утром она объявила, что заболела, и мать, встревожившись, сунула ей градусник. Температура оказалась под сорок, и мать вызвала врача.
Нюта лежала под двумя одеялами, ей было по-прежнему холодно, и сильно била мелкая дрожь. Врач посмотрел горло, послушал легкие и вынес вердикт:
– Девица горит, скорее всего, пневмония. Ну, что ж – антибиотики, кислое питье, малина и мед – все как обычно. И будем надеяться, что осложнений не будет – на улице май, тепло, словно летом. Да! Обязательно свежий воздух! Открывайте окно.
К вечеру температура упала, и она захотела есть. А ночью ей не спалось – была такая слабость, что руки не держали книжку, а лежать с закрытыми глазами и снова думать обо всем этом просто не было сил. И еще было страшно!
Она слышала, как отец разговаривал с Яворским, как тот справлялся о ее здоровье, переживал, что «простудил ее ночью», отец разговаривал с ним коротко и сухо, и она снова переживала, что лишила отца радости общения со старым другом – отец больше не приглашал его зайти и прекратил разговоры по поводу переезда друга в Москву.
Она все время спала – температура то подскакивала, то снова падала, а сил по-прежнему не было. В пятницу родители засобирались на дачу – она была этому рада, хотелось остаться одной и не видеть все осуждающий взгляд отца и жалостливый матери.
Она помахала им из окна и снова забралась в постель. Почти задремала, и сквозь пелену сна услышала телефонный звонок. Она соскочила с кровати, запуталась в одеяле, упала, разбила коленку и все же успела добежать и схватить телефонную трубку.
У нее перехватило дыхание, когда она услышала его глуховатый и хриплый голос.
– Милая Нюта, – он смущенно кашлянул, – вот, звоню попрощаться! И еще – извиниться… ну, что так вышло… – Он растерянно замолчал, а потом продолжил: – Старый дурак! Простудил девочку, а самому – хоть бы хны.
Нюта тоже молчала, сердце билось как сумасшедшее, и слова застревали в горле. Еле пискнула:
– Да в чем вы виноваты? Какая глупость! И думать забудьте!
Он перебивал ее, а она его, и разговор получился дурацкий, суетливый, скомканный и нелепый.
Наконец он сказал, что во всех театрах «отметился», жаль, что без нее, без такой прекрасной спутницы, но Москву все же успел посмотреть, и снова жаль, что без «такого чудесного гида».
Она заторопилась ответить, что уже совсем здорова, совсем и готова – вот прямо сейчас, через полчаса – встретиться с ним и продолжить «программу».
Он вздохнул и сказал, что звонит, собственно, попрощаться – поезд через пару часов, отпуск кончился, и, увы, – зовут дела и работа.
Она замолчала, окаменела и только смогла вымолвить жалкое:
– Так, значит, мы не увидимся больше?
Он рассмеялся.
– Зачем же так обреченно? Ну, кто же знает, как сложится жизнь…
Застывшими губами она еле проговорила, что приедет на вокзал и «какой поезд, ну, номер, скажите…».
Он запротестовал так категорично, что возражать не было смысла.
– И еще раз – огромный привет родителям! И снова – мои извинения. За все беспокойства.
Она положила трубку и медленно опустилась на стул. Очнулась, только когда громко пропели часы с боем, стоящие в отцовском кабинете. Коленка саднила и щипала. Она намазала ее йодом и подумала, что сердечную рану ничем не замажешь.
Весь день она провалялась в постели и чувствовала такую боль в груди, будто в сердце у нее огромная дыра.
Родители звонили со станции и порывались вернуться.
Ах, ну какие глупости! Она со всем справляется. Слава богу, отговорила.
Приехали они через три дня, и Нюта сделала вид, что весела и довольна. «Вид» этот был, прямо скажем, разыгран отнюдь не профессионально – мама все заглядывала ей в глаза, смотрела с тревогой и о чем-то шушукалась с отцом.
Однажды за ужином отец коротко, как бы между делом, бросил:
– А этот… не объявлялся?
– Кто? – хрипло переспросила Нюта.
– Дружок мой… Ответственный, – недобро усмехнулся отец.
Нюта пожала плечами.
– А… Этот… в смысле – Яворский?
– В смысле, – кивнул отец.
– Да звонил – попрощаться, – небрежно бросила она и опустила глаза.
На том разговор и закончился.
Наконец переехали на дачу – совсем. Летний сезон был объявлен открытым. Июнь был холодным, серым и очень дождливым. Все время топили печь, а все равно в доме пахло сыростью. Отец, как всегда, работал в мансарде, мать хлопотала по дому, замирала у окна, тяжело вздыхала и сетовала, что пропадут цветы и их нехитрый огород – редиска, укроп и зеленый лук.
Дожди лили всю ночь, и только к обеду чуть просветлялось небо, проглядывало смущенное солнце, а с ним и надежда. Но к вечеру небо опять темнело, поднимался ветер, и, сначала осторожно, словно предупреждая, а потом набирая силу, начинался монотонный, занудный дождь.
Нюта лежала в своей комнате и листала старые журналы, любовно хранимые отцом на чердаке.
Но не читалось и не спалось. Так, чуть дремалось. И в этой тревожной и мутной дреме перед глазами стоял тот вечер, когда они шли к Маяковке и он накинул ей на плечи свой серый пиджак. Она помнила запах, который шел от пиджака, – запах табака и «Шипра». И еще – запах взрослого и сильного мужчины. Она вспоминала его лицо – так тщательно, так скрупулезно, – голубые глаза, густые темные брови, сходящиеся на переносице. Упрямый и жесткий рот, резкие складки от носа к подбородку. Пальцы – тонкие, сильные, с желтыми следами от папирос. Волосы, которые он резко отбрасывал назад. Она пыталась вспомнить их разговор в ресторане, но помнила плохо, словно в тумане, и корила себя за то, что пила вино. Сквозь пелену некрепкого сна ей словно слышался его смех – отрывистый, хриплый, глухой.
Закрыв глаза, она слушала, как дождь барабанит по жестяной крыше, и это ее успокаивало.
Она спускалась к обеду и ела плохо и мало, коротко отвечая на вопросы матери и не выдерживая странного и испуганного взгляда отца. Так она пролежала июнь, а июль ворвался резкой и сильной жарой, словно оправдываясь за младшего брата.
Под окном густо расцвел жасмин, и к вечеру его сильный и сладкий запах разливался по всему участку и заползал в открытые настежь окна. Ночью было душно и снова не было сна. Она садилась к окну и смотрела на черное звездное небо почти до рассвета. И однажды пришла в голову мысль, что она – Наташа Ростова, ей стало весело, и чуть отпустило.
Наконец она заскучала, позвонила со станции Зине и пригласила ее пожить. Та слегка поломалась, покапризничала и, разумеется, согласилась.
На следующий день Нюта встречала ее на станции.
Они шли к дому, и Зина рассказывала ей, что влюбилась в друга своего старшего брата Германа. Предмет ее страсти «необыкновенный, перспективный, и вся кафедра считает, что Половинкин гений и у него огромное будущее».
Глаза у Зины горели, и Нюта не без радости заметила, что подруга здорово похорошела.
– Значит, будешь Половинкиной, – рассмеялась она.
Зина вздохнула и ответила, что это еще как сказать. Гений Половинкин на женщин не смотрит, а думает только о квантовой физике.
– Ну, значит, «взять» его будет совсем не-сложно, – заверила Нюта. – Прояви смекалку, и Половинкин твой. Раз нет конкуренции – за тобой пироги, театры и, разумеется, восхищение.
– Откуда такие познания? – удивилась подруга.
Но, похоже, к сведению приняла – стала интересоваться у Людмилы Васильевны, как ставить тесто на пироги.
– Слушай! – вдруг осенило Зину. – А давай-ка махнем на море! Возьмем с собой Герку и Половинкина. И – вперед! В Туапсе или в Сочи.
Нюта растерялась, но через пару минут сказала:
– А что, махнем! Море – это всегда прекрасно.
Оставалось уговорить родителей. Зине было проще – она ехала, точнее собиралась ехать, с братом. А вот Нюте еще предстояли баталии.
Решили на воскресенье позвать друзей на шашлыки. Пусть родители познакомятся, посмотрят на кавалеров и успокоятся.
К двенадцати пошли по дороге на станцию встречать гостей. Встретили на полпути – два худых и сутулых очкарика в клетчатых ковбойках и сандалиях, словно близнецы-братья, шли им навстречу, таща в руках авоськи с мясом и бутылками сухого вина.
От такого сходства друзей Нюта еле сдержала смех: физики, умники, будущие гении – что поделаешь? И все же смешно – как под копирку! У них что, на физмате все такие?

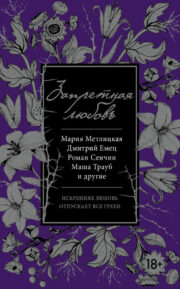
"Запретная любовь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Запретная любовь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Запретная любовь" друзьям в соцсетях.