— Да.
На этот раз я выдавливаю только шепот. Вдали от дома и опасности дальнейшего расстройства Маи, я чувствую, что теряю силы, поддаваясь потрясению, ужасу, слепой панике сложившейся ситуации.
Следуют еще вопросы. Меня снова просят повторить мое имя, адрес, дату рождения. Я отвечаю изо всех сил, мой мозг, кажется, медленно выключается. Когда у меня спрашивают, где я работаю, я колеблюсь.
— Я… я не работаю.
— Ты на пособии по безработице?
— Нет. Я… я еще учусь в школе.
Тогда сержант поднимает на меня глаза. Под его проницательным взглядом у меня горит все лицо.
Далее следуют вопросы о моем здоровье и психическом состоянии — без сомнения, они считают, что только психопат способен на такое преступление. У меня спрашивают, нужен ли мне адвокат, и я тут же отвечаю мотанием головы. Последнее, что мне нужно, — это чтобы кто-то еще участвовал в этом, слышал обо всех ужасных вещах, что я сделал. В конце концов, я пытаюсь доказать свою вину, а не невиновность.
После того, как с меня снимают наручники, меня просят сдать все вещи. К счастью, у меня ничего с собой нет, и я чувствую облегчение, что не взял фотографию из комнаты. Возможно, Мая вспомнит о ней и сохранит в безопасности. Но я не перестаю надеяться, что она отрежет двух взрослых, сидящих на другом конце скамьи, от зажатых посередине пятерых детей. Потому что, в конечном счете, именно такой семьей мы и стали. В конце концов, именно мы любили друг друга, боролись за то, чтобы быть вместе. И этого достаточно, более чем достаточно.
Они просят меня опустошить карманы, вытащить шнурки из ботинок. И снова дрожь в руках предает меня, и когда я становлюсь на колени на грязном линолеуме, то чувствую нетерпеливость офицеров, их презрение. Шнурки помещают в конверт, и мне приходится за них расписываться, что кажется мне абсурдным. Потом меня обыскивают, и от прикосновения блуждающих по мне рук офицера, вверх и вниз по ногам, я начинаю сильно дрожать, держась за край стола, чтобы не упасть.
В небольшой приемной я сижу на стуле — делают фотографию меня, ватной палочкой проводят во рту. Когда мои пальцы прижимают к чернилам, а потом опускают на отмеченный участок бумаги, меня охватывает чувство полной отрешенности. Я лишь объект для этих людей, я больше не человек.
Я благодарен, когда меня, наконец, заталкивают в камеру, и тяжелая дверь захлопывается за мной. К счастью, она пустая, маленькая и вызывающая клаустрофобию, в ней ничего нет, кроме узкой кровати, встроенной в стену. У потолка — зарешеченное окно, но свет, заполняющий комнату, полностью искусственный, резкий и очень яркий. По стенам размазаны граффити и что-то похожее на фекалии. Запах отвратительный — гораздо хуже, чем в самом гадком общественном писсуаре, — и мне приходится дышать ртом, чтобы избежать тошноты.
Проходит целая вечность, прежде чем я достаточно расслабляюсь, чтобы освободить мочевой пузырь в металлический унитаз. Теперь вдали от их бдительных глаз я не могу перестать дрожать. Обнаружив маленькое окошко в двери, лишь заслонку, я боюсь, что в любую минуту ворвется офицер. Откуда я знаю, что за мной не наблюдают прямо в эту минуту? Обычно я не настолько стыдливый, но после того, как меня вытащили из постели в одном белье, двое полицейских затолкали полуголого в мою спальню, заставив одеться перед ними, я жалел, что никак нельзя прикрыться. С тех пор, как я услышал ужасные обвинения, я чувствовал сильный стыд за свое тело, за то, что оно сделало — по мнению остальных.
Спустив воду в унитазе, я возвращаюсь к толстой металлической двери и прижимаюсь к ней ухом. Крики эхом разносятся по коридору: пьяная ругань, непрекращающийся вопль, — но кажется, что они доносятся откуда-то издалека. Если я буду прижиматься спиной к двери, тогда, даже если офицер и подсматривает за мной через окошко, то он, по крайней мере, не увидит моего лица.
Как только я убедился, что у меня, наконец, появилась некоторая степень уединенности, как предохранительный клапан у меня в мозгу, который до сего момента помогал мне действовать, открывается какой-то непонятной силой, и меня охватывают образы и воспоминания. Внезапно я бросаюсь к кровати, но не успеваю дойти до нее, как у меня подкашиваются ноги, и я опускаюсь на бетонный пол, впиваюсь в толстый синтетический чехол, сшитый на матрас. Я тяну его так яростно, что боюсь, что он может порваться. Свернувшись, я сильно прижимаюсь лицом к грязной кровати, заглушая нос и рот, как только можно. Причиняющие боль рыдания разрывают все мое тело, угрожая разорвать меня на части от их силы. Весь матрас трясется, моя грудная клетка судорожно вздрагивает о твердый каркас кровати, и я задыхаюсь, душу, лишая себя кислорода, но не в состоянии поднять голову, чтобы вздохнуть, из страха издать звук. Плач никогда не причинял столько боли. Мне хочется свернуться под кроватью в случае, если кто-то смотрит и видит меня таким, но места слишком мало. Я даже не могу поднять простыню, чтобы накрыться — здесь просто некуда спрятаться.
Я слышу мучительные крики Кита, вижу его кулаки, бьющие в окно, его тощую фигурку, бегущую за машиной, все его тело сжимается, когда он понимает, что бессилен, чтобы спасти меня. Я думаю о Тиффине и Уилле, играющих у Фредди, в волнении бегающих вокруг дома с друзьями, не осознавая того, что ждет их дома по возвращении. Им скажут, что я сделал? Они тоже будут их расспрашивать обо мне: обо всех объятьях, мытье, щекотках, суматошных играх, в которые мы играли? Им промоют мозги, что я совратил их? И спустя годы, если у меня когда-либо появится возможность снова встретиться с ними уже взрослыми, захотят ли они вообще меня видеть? У Тиффина останутся смутные воспоминания, но Уилла знает меня лишь первые пять лет своей жизни — сохранит ли она хоть какие-то воспоминания?
Наконец, слишком долго удерживая ее подальше от своих мыслей, я думаю о Мае. Мая, Мая, Мая. Я выдавливаю ее имя в свои ладони, надеясь, что звук ее имени принесет мне утешение. Я никогда не должен был так ужасно рисковать ее счастьем. Ради нее, ради детей я никогда не должен был позволять нашим отношениям развиваться. Я не мог раскаиваться об этом ради себя — нет ничего, что я не мог бы вынести за те несколько месяцев, что мы были вместе. Но я никогда не думал об опасности для нее, ужасе, через который ей придется пройти.
Я боюсь того, что они могут сейчас с ней делать: закидывать ее вопросами, с которыми она будет бороться, чтобы ответить, разрываясь между тем, чтобы защитить меня, сказав правду, и обвинить меня в изнасиловании и тем самым защитить детей. Как я мог поставить ее в такое положение? Как я мог просить ее сделать такой выбор?
Лязг и грохот ключей и металлических замков встряхивают мое тело, напугав меня и приведя в замешательство и панику. Офицер приказывает мне встать, сообщает, что меня вызывают в комнату допроса. Прежде, чем мое тело отреагирует, я упираюсь рукой и встаю на ноги. На мгновение я отшатываюсь, отчаянно пытаясь привести в порядок свои мысли — мне нужно лишь мгновение, чтобы прояснить голову, вспомнить, что мне нужно сказать. Это может быть мой последний шанс, и я должен правильно им воспользоваться, убедиться, что между историей Маи и моей нет ни малейшего расхождения.
Меня снова заковывают в наручники и ведут несколькими длинными ярко освещенными коридорами. Я понятия не имею, как давно меня запихнули в камеру — время перестало существовать. Окон нет, поэтому я не могу сказать, что сейчас: день или ночь. У меня кружится голова от боли и страха — одно неверное слово, одно неверное движение, и я могу все испортить, упустить что-то, что может как-то вовлечь во все это и Маю.
Как и моя камера, комната допросов резко освещена: яркий флуоресцентный свет делает всю комнату зловеще желтой. Она не больше камеры, но здесь запах мочи заменяет пот и спертый воздух, стены голые, а пол покрыт ковром. Единственная мебель: узкий стол и три стула. В дальнем конце сидят два офицера: мужчина и женщина. Мужчине чуть больше сорока, у него узкое лицо и коротко остриженные волосы. Твердость во взгляде, мрачное выражение лица, стиснутая челюсть — все говорит о том, что такое он видел много раз, что годами ломает преступников. Он выглядит резким и проницательным, в нем есть что-то жесткое и пугающее. Женщина рядом с ним выглядит старше и более обычно, с зализанными назад волосами и уставшим от жизни выражением лица, но в глазах ее тот же острый взгляд. Оба офицера выглядят так, будто хорошо обучались искусству манипулирования, угроз, уговоров и даже лжи, чтобы получить то, что нужно от подозреваемых. Даже в своем запутанном и туманном состоянии я тут же чувствую, что они хороши в своем деле.
Меня подводят к серому пластиковому стулу напротив них, стоящему меньше чем в полуметре от края стола и упирающемуся спинкой в стену позади меня. Должно быть, мы все тоже в камере — стол не очень широкий, и все кажется далеким от удобства. Я остро осознаю, какое у меня липкое лицо, волосы прилипают ко лбу, тонкая ткань футболки — к спине, пятна пота видны на ткани. Я чувствую себя грязно и отвратительно, в горле стоит привкус желчи, во рту — кислой крови, и, несмотря на бесстрастные выражения лиц офицеров, их отвращение практически ощутимо в этом маленьком замкнутом пространстве.
С тех пор, как меня завели, мужчина не поднимал взгляда, но продолжал что-то строчить в папке. Когда он все-таки поднимает глаза, я вздрагиваю и машинально пытаюсь отодвинуться на стуле назад, но он не двигается.
— Этот допрос будет записан и снят на видео. — Глаза, как маленькие серые гальки, впиваются в меня. — У тебя есть возражения?
Как будто у меня есть выбор.
— Нет.
В углу комнаты я замечаю небольшую камеру, наведенную на мое лицо. У меня на лбу снова выступает пот.
Мужчина щелкает выключателем какого-то записывающего устройства и зачитывает номер дела, за которым следуют дата и время. Он продолжает излагать:
— Присутствую я сам, инспектор уголовной полиции Саттон. Справа от меня — инспектор уголовной полиции Кей. Напротив нас — подозреваемый. Представься, пожалуйста.
С кем именно он говорит? С другими офицерами полиции, специалистами по правде, судьей и присяжными? Будет ли этот допрос проигрываться в суде? Будут ли мои собственные описания моего преступления воспроизводиться моей семье? Будут ли заставлять Маю слушать мои заикания и запинки во время допроса, а потом просить ее подтвердить, что я сказал правду?
Ради всего святого, не думай об этом сейчас. Перестань сейчас об этом думать, единственные две вещи, на которых ты должен сосредоточиться в данный момент — это твое поведение и твои слова. Все, что сорвется с твоих губ, должно звучать полностью и совершенно убедительно.
— Лочен Уи… — Я прочищаю горло, мой голос слабый и неровный. — Лочен Уители.
Следующие несколько вопросов обычные: дата рождения, национальность, адрес. Инспектор Саттон едва поднимает голову, либо, записывая мои слова в папку, либо бегло просматривая записи, его глаза быстро двигаются из стороны в сторону.
— Ты знаешь, почему находишься здесь? — Его глаза совсем неожиданно встречаются со мной, заставив меня вздрогнуть.
Я киваю. Потом сглатываю.
— Да.
Ручка застывает, он продолжает смотреть на меня, будто ожидая, что я продолжу.
— За… сексуальное насилие над своей сестрой, — говорю я, мой голос напряжен, но спокоен.
Слова повисают в воздухе, как маленькие красные колотые раны. Я чувствую, как воздух сгущает, сжимается. Несмотря на то, что перед офицерами лежит все записанное за мной, мои произнесенные вслух слова в присутствии видеокамеры и диктофона делают все это непреложным. Я почти не чувствую, что лгу. Возможно, не существует единственной универсальной правды. Для меня — инцест по обоюдному согласию, для них — сексуальное насилие в отношении ребенка, члена семьи. Возможно, оба ярлыка правильны.
А потом начинаются вопросы.
Сначала это биографические данные. Утомительные, бесконечные мелочи: где я родился, члены семьи, даты рождения их всех, подробности о нашем отце, мои отношения с ним, моими братьями и сестрами, с моей матерью. Я придерживаюсь правды насколько возможно, даже рассказывая им о поздних маминых сменах в ресторане и ее отношениях с Дейвом. Я с осторожностью опускаю те части, умолчать которые, я надеюсь, также хватить ума маме и Киту: ее проблема с алкоголем, ссоры из-за денег, переезд к Дейву и, в конечном итоге, практически полный отказ от семьи. Вместо этого я говорю им, что она только недавно начала работать в поздние смены, и по вечерам я сижу с детьми, но только когда они уже спят. Пока все идет хорошо. Уклад не идеальной семьи, но той, которая укладывается в рамки нормальной. А потом, после того, как они получили каждую деталь, начиная с количества комнат в доме, соответствующих школ до наших оценок и внеклассных занятий, они, наконец, задают вопрос:

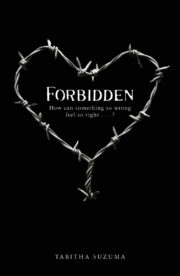
"Запретное" отзывы
Отзывы читателей о книге "Запретное". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Запретное" друзьям в соцсетях.