— Я постараюсь, — пообещала Элси. Она с легкостью дала себя уговорить, как это свойственно всем людям, когда путь к желанной цели преграждает какой-то не вполне ясный моральный принцип.
— Постойте-ка, — сказала она, разглядывая билеты. — Вот этот, до Окленда, выписан на имя Оливии Хони.
— Ах, да, — сказала Руфь. — Совсем забыла. Вот, возьми. — Она вручила Элси паспорт, без труда добытый при посредничестве молодого человека из студенческого кафе. Паспорт также был оформлен на имя Оливии Хони, и в него была вклеена очень удачная фотография Элси — в агентстве хранились фотографии всех сотрудниц, выполненные с большим мастерством. В графе «Возраст» значилось: «Двадцать один».
— Приятное имя, — заметила Элси.
— Кому-то, наверное, понравится, — сказала Руфь. — А кому-то нет.
— Имя Элси мне никогда не нравилось, — сказала Элси. — Ой, смотрите-ка! Я потеряла целых пять лет!
— Точнее сказать, приобрела, — сказала Руфь. — Пять лет жизни или, если угодно, пять лет молодости — впрочем, это, в сущности, одно и то же.
— Я согласна! — сказала Элси.
— Я знала, что ты согласишься, — кивнула Руфь.
— Кто ж откажется?
В общей сложности Руфь перевела с личного счета Боббо на их общий с ним счет порядка двух миллионов долларов. Затем она обратилась в один из швейцарских банков в Люцерне — швейцарские банки не задают лишних вопросов — и от имени Боббо попросила открыть у них новый общий счет, на который внесла чеком упомянутые два миллиона. Уведомление швейцарского банка, подтверждающее, что деньги благополучно поступили на счет, было перехвачено Ольгой со стола управляющего, и таким образом вся операция прошла как по маслу, ни у кого не вызвав подозрения. (В свою очередь, сестра Хопкинс официально усыновила Ольгиного больного малыша и тем самым развязала ей руки, чтобы она вновь могла вернуться на эстраду, к пению, — что та и сделала, притом весьма успешно.) Руфь тоже полетела в Люцерн, встретилась там с Элси, перевела всю сумму на счет, который Элси только-только успела открыть на свое имя, и стала ждать, пока банк подтвердит законность операции и счетом можно будет свободно пользоваться. Элси сняла все деньги, наличными, передала их Руфи, тепло расцеловала ее на прощание и скрылась в здании аэропорта — уже как Оливия Хони.
А Руфь ненадолго вернулась к сестре Хопкинс и агентству Весты Роз.
— Дорогая моя, — сказала она, — пришло время нам расстаться.
Сестра Хопкинс горько заплакала.
— Никогда не жалей себя, — сказала ей Руфь, — и не вини родителей за все свои беды. Пусть они напрасно давали тебе в детстве гормональные препараты, но они любили тебя и желали тебе добра, и, самое главное, они оставили тебе деньги. Деньгами нужно пользоваться, а не молиться на них. Я оставляю тебе агентство Весты Роз — управляй им; и Ольгиного мальчика — люби его. Это мое наследство, и у тебя с ним будет достаточно хлопот, особенно с мальчиком, — больше чем достаточно, чтобы убиваться по мне.
— А что у тебя в чемодане? — спросила сестра Хопкинс. — И куда ты держишь путь?
— В чемодане деньги, — сказала Руфь. — А путь я держу в мое будущее.
Исчезнуть со сцены было самое время. На следующей неделе в офис Боббо пожаловали аудиторы с ежегодной проверкой финансовой отчетности. На этот раз они возились с бумагами неслыханно долго, тормозя ему всю работу, и Боббо уже начал подозревать их в некомпетентности.
А затем явился полицейский.
— Я не понимаю, о чем вы говорите! — возмутился Боббо.
— Только не пытайтесь строить из себя невинную овечку, не надо! — сказал полицейский. — Нам все известно. Шустренькая мисс Элси Флауэр натянула вам нос. Интересно, где ж вы с ней собирались начать новую жизнь? Небось в Южной Америке?
— Элси Флауэр? — растерянно повторил Боббо.
— Кто это? — Он честно старался, но вспомнить ее не мог. Начальники редко запоминают машинисток.
22
Мэри Фишер живет словно в бреду. Что происходит? Оказалось, что ее счастье почему-то налито в дырявый таз, и с каждой минутой оно куда-то утекает, и сделать ничего нельзя. Сначала письмо от какой-то девицы, утверждающей, что Боббо с ней спит. Боббо все отрицает, разумеется, не признаваться же ему! Мэри Фишер теперь понимает, что письма такого рода чаще всего говорят правду, а это письмо и подавно. Она также понимает, что за счастьем всегда следует несчастье, за удачей — неудача. Что любить значит стать уязвимой для ударов судьбы, самой навлекать на себя ее гнев. В конце концов Боббо уже не отрицает — ладно, говорит, сдаюсь, было дело, но все в прошлом, все несерьезно, какая-то машинисточка — сегодня пришла, завтра ушла, и скатертью дорога, ха-ха; Мэри, моя дорогая, лишь тебя я люблю, ты мое солнце, моя жизнь, ты звезда моя путеводная; ну как же ты можешь так унижать себя, так расстраиваться из-за письма какого-то ничтожества? Злобного ничтожества, заметь! И Мэри Фишер прощает его — что же ей еще остается делать? Разве только потерять его, но если она потеряет его, ей кажется, она умрет.
Да и как она может не простить, как может не простить, когда следы от прикосновений Гарсиа на ее теле еще не стерлись? И все же, все же, почему так: что кошке игрушки, то мышке слезки?
Мэри Фишер живет в Высокой Башне у самого моря, за толстой стеной достатка и права на неприкосновенность частной жизни, в полном единении с природой. Было время, она лишь издали кокетничала с миром по ту сторону стен, но сейчас, вместе с любовью, этот мир врывается в ее жизнь — за валом вал. Сперва дети ее возлюбленного, затем ее собственная мать, и вот наконец полицейский, который стучится в ее дверь. То-то доберманы подняли такой лай, то-то они пританцовывают, дрожа от возбуждения! Она в недоумении, и Боббо тоже в недоумении.
— Вот ведь несчастье! Какой-то злой рок, не иначе, — говорит она.
— Это ты, ты во всем виновата, — говорит он.
Мэри Фишер шатает, как от удара. Неужели и вправду так? Выходит, что так. Кто, как не она, если разобраться, спровоцировал эту любовь — на горе им обоим? Кто, как не она, в те далекие беззаботные дни, когда любви еще не было и в помине, велел Боббо отвезти ее домой, кто позволил ему переступить через Руфь, кто лишил детей матери, кто?.. Не счесть всего, за что она в ответе.
Боббо рыдает.
— Наверное, мне все это снится, какой-то безумный кошмар, — говорит он, ставя уже под сомнение реальность земли, по которой она ступает.
Мысленным взором она видит, как Высокая Башня начинает качаться, рушится и превращается в никому не нужные руины. Что ж, все может быть.
Гарсиа стоит в дверях и слушает. Он с наслаждением следит за крахом обитателей Высокой Башни.
— Чем выше влезешь, — говорит он мне, — тем больнее падать. Закон природы, справедливый закон.
— Природы или не природы — это еще вопрос, — смеюсь я в ответ. Дьяволицам природа не указ: они сами создают себя — из ничего.
Полицейские наведываются в Башню, когда Мэри Фишер нет дома. Они устраивают обыск и находят сложенный листок — письмо Элси Флауэр — в шкатулке с драгоценностями Мэри Фишер, в запертом на ключ выдвижном ящике, среди жемчужных ниток и брошек с изумрудами, которые она хранит в силу ностальгической сентиментальности, втайне от ненаглядного Боббо. Она все же не до конца порвала с прошлым ради настоящего — нет, не до конца.
Гарсиа сам подводит их к заветной шкатулке. Ни стыда, ни душевных терзаний он не испытывает. Она первая предала его. Прежде она была для него солнце в небе, а теперь — ничто. Связалась с Боббо и стала сама как он. Ничто.
Полиция накладывает арест на офис Боббо, опечатывает двери, конфискует все бухгалтерские документы.
— Ничего не понимаю, — в который раз повторяет он. — Мэри! Я люблю тебя.
Мэри Фишер сидит в Высокой Башне и ждет, что друзья придут ей на помощь, но все словно воды в рот набрали. Да и что они могут сказать? Твой любовник, твой друг сердечный, взял и прикарманил наши денежки. А мы ведь литераторы, люди не от мира сего, непрактичные, доверчивые. Полюбуйся, что с нами сделали по твоей милости. Твой сердечный — вернее, бессердечный — друг едва не сбежал со своей машинисточкой, только она заграбастала деньги первая, и поминай как звали. Из сострадания к Мэри Фишер друзья хранят молчание.
Боббо сидит в Высокой Башне, и на душе у него с каждым днем все чернее. Он забывает бриться, кожа на подбородке становится дряблой, щетина — седой.
— Ты еще веришь в меня, любимая? — спрашивает он.
— Я в тебя верю, — говорит Мэри Фишер.
— Тогда спаси меня! — просит он.
Мэри Фишер нанимает самых дорогих в мире адвокатов. Они разбросаны по всему свету, но она оплачивает им дорогу, и они прилетают. Никто из них не говорит свободно по-английски, и ей приходится нанять еще и переводчика.
— Это будет дорого стоить, — предупреждают они ее. — Такие дела иногда тянутся годами.
— Ох, Боббо, — вздыхает Мэри Фишер. — Если бы ты не изменял мне, ничего бы этого не случились! — Она еще не успевает закончить, как видит, что любовь утекает куда-то из его глаз — и, странно, словно по закону сообщающихся сосудов, наполняет ее глаза. Ее судьба определена навек: чем меньше любит он, тем больше она.
Кто-то стучит в дверь Высокой Башни в три часа ночи. Полиция. Мэри Фишер звонит адвокатам, которые живут за ее счет в роскошной отеле, но они не понимают, чего она от них хочет. Переводчик куда-то отлучился. Боббо уводят.
Наутро переводчик появляется, и она слышит: «Лишение свободы — главный вопрос любого законодательства, это на девять десятых и есть закон. Постараемся сделать, что сможем». И адвокаты стараются, но просто поразительно, как мало они могут. Они подают прошение об освобождении арестованного под залог, начинают готовить аргументы для защиты в суде и в то же время заняты еще одним чрезвычайно сложным и деликатным делом о предоставлении им самим политического убежища. Глупо ведь покидать страну, где живут такие Мэри Фишер!
Мэри Фишер выставляет один из своих домов на продажу, хотя рынок недвижимости переживает не лучшие времена. Адвокаты заявляют, что одного дома на все не хватит. А кстати, сколько их у вас? Только три? О Боже! Ну, ладно, до суда, может, как-нибудь и дотянем. Слушание начнется месяцев через девять. Раньше и думать нечего. Сами знаете, какие сейчас времена, к тому же судьей назначен некто Генри Биссоп — человек непредсказуемый, авторитетный и страшно занятой. Но они сделают все от них зависящее, чтобы вызволить Боббо под залог, вернуть его в объятья Мэри Фишер.
Гарсиа больше не навещает по ночам Мэри Фишер. У него пропала всякая охота. Его радуют доносящиеся из спальни рыдания. Чего ради он должен ее успокаивать?
Мэри Фишер лежит ночью одна, и не спит, и плачет в тоске по Боббо. Он ей и ребенок, и отец, кто угодно — все на свете. Одно только утешение: в тюрьме он вряд ли сможет ей изменить.
Над Высокой Башней созвездия кружат свой обычный хоровод, как будто ничего не случилось здесь, на земле. Мэри Фишер гадает, видит ли Боббо из своей тюремной камеры это небо, думает ли о ней. Почему-то когда она приходит к нему на свидание, у нее не поворачивается язык спросить его об этом.
23
Судья Генри Биссоп жил в большой роскоши в доме на холме, откуда открывался прекрасный вид на город. Дом был построен из рыжеватого бетона, расчерченного на аккуратные прямоугольники и до блеска отполированного: похоже на мокрый кирпич. Вокруг на площади в один акр зеленела искусственная трава, которую не нужно подстригать — достаточно лишь помыть из шланга. Судья боялся воров, изрядно повидав их на своем веку, поэтому в доме было несметное количество замков, задвижек, засовов и металлических решеток. Но суровую необходимость постарались обернуть на пользу эстетике — все эти препятствия на пути грабителей были изобретательно и с большим вкусом выполнены мастерами художественной ковки. В зависимости от ракурса, дом выглядел по-разному: то как старинный замок, то как современный дом-бунгало.
Внутри, в комнатах, всюду лежали пурпурного цвета ковры — такие пушистые, что пушистее уже не бывает, кругом были понатыканы какие-то маленькие светильнички с ярко-розовыми атласными абажурами, расшитыми золотой тесьмой, пухлые диваны щеголяют баснословно дорогой оранжевой кожей. Стены были украшены полированными панелями — фанеровка под красное дерево — или темно-красными обоями под ткань, какие часто видишь в индийских ресторанах. Все это отражало вкус леди Биссоп, отнюдь не самого судьи, но он сознательно предоставил ей тут полную свободу действий — впрочем, только тут и ни в чем больше. Он любил наблюдать за выражением лиц визитеров, когда приглашал их пройти в гостиную, — уловить беглую тень замешательства, с которым уже в следующее мгновение гость умело справлялся. Во многом благодаря этой способности подмечать перемены в выражении лиц и быстро находить им психологическую мотивировку судья и заслужил репутацию необыкновенно проницательного человека. И он никогда не упускал случая попрактиковаться в этом искусстве.

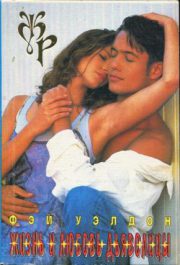
"Жизнь и любовь дьяволицы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Жизнь и любовь дьяволицы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Жизнь и любовь дьяволицы" друзьям в соцсетях.