Верите ли, даже ради мамы я так и не смогла одолеть науку улыбаться — просто улыбаться и сохранять спокойствие. Мой мозг работал как безнадежно расстроенный рояль, на котором играет кто попало, ни на минуту не оставляя его в покое. Она дала мне имя Руфь, и я думаю, уже в первые дни моей жизни у нее появилось желание по возможности забыть обо мне. Короткое, как прощальный взмах руки, печальное имя. Моих маленьких сводных сестер звали Джослин и Миранда. Обе они удачно вышли замуж и исчезли с моего горизонта, окунувшись, несомненно, в жизнь, полную довольства, и радости, и всеобщего восхищения.
3
Мэри Фишер, хозяйка Высокой Башни! Что у тебя сегодня на ужин? А может, ты и сама не знаешь, может, этим у тебя ведает прислуга? А кто составит компанию? Может, у тебя и другие любовники имеются — будет с кем постоять возле огромного окна с видом на бухту и морской простор, полюбоваться восходом луны, вечерними красками на небе? Может, ты и за стол не садишься, если, помимо яств, твой аппетит не подогревается предвкушением жарких объятий? Что ж, тебе можно позавидовать! Но сегодня тебя будет ублажать кто угодно, только не Боббо. Сегодня Боббо ужинает со мной.
Я раскрою в столовой окна — они выходят в сад: конечно, если ветер не поднимется. И тогда в комнате будет пахнуть цветами, которыми увита стена гаража. Стекла в окнах у нас двойные.
Счет за мытье окон в доме Мэри Фишер только за один прошлый месяц составил 295 долларов 75 центов. Именно эта сумма была перечислена из кипрского банка на здешний счет Мэри Фишер, с которого она снимает деньги на содержание дома. Боббо, в те редкие дни, когда он приходит домой ночевать, частенько приносит с собой счета Мэри Фишер. В такие ночи мне не до сна: я выбираюсь из постели — очень тихо, очень осторожно — и иду в его кабинет, чтобы поближе познакомиться с обстоятельствами жизни Мэри Фишер. У Боббо сон крепкий. Он ведь приходит домой отдохнуть, отоспаться, наконец.
Я сама мою окна в нашем доме: высокий рост тоже иногда может пригодиться.
Сегодня у нас, в доме 19 по Совиному проезду, будет подаваться грибной суп, слоеные пирожки-волованы с курятиной и шоколадный мусс. К нам в гости придут родители Боббо. Ему не хочется их огорчать, и поэтому он будет старательно изображать добропорядочного семьянина, хозяина дома в респектабельном, тихом предместье и наконец займет давно пустующее место во главе стола. Иногда он будет поглядывать в сад, на желтофиоли, шток-розы, виноград. Я люблю ухаживать за садом. Люблю, чтобы природа меня слушалась, чтобы вокруг было красиво.
Дела у Боббо идут прекрасно. Он очень преуспел в последнее время. Начинал он скромно, простым инспектором в налоговом управлении, но потом оставил государственную службу, махнул рукой на всякую осторожность, в том числе и на гарантированную пенсию по старости, и стал оказывать частные услуги как специалист в области налогообложения. Теперь он зарабатывает хорошие деньги. И его вполне устраивает, что я сижу себе в Райских Кущах и носа оттуда не показываю. У Боббо прекрасная квартира в центре города, в пятнадцати километрах к востоку от нашего дома, то есть еще на пятнадцать километров дальше от моря и от Мэри Фишер. Там он иногда устраивает неофициальные приемы для своих клиентов, там он, кстати, впервые свел знакомство с Мэри Фишер и там он периодически ночует, когда дела задерживают его в городе допоздна. Во всяком случае, так он объясняет свои отлучки мне. В квартире у Боббо и в его офисе я была буквально считанное число раз. По причине моей якобы чрезмерной занятости домашними делами. Зачем ставить Боббо в неловкое положение перед его нынешней шикарной клиентурой? И он, и я, мы оба понимаем, что это было бы неразумно. Ну Боббо и жену себе откопал — слонопотам какой-то! Для заурядного налогового инспектора оно бы еще туда-сюда, а уж для частного эксперта по налогообложению, да еще прокладывающего путь к богатству и успеху, — извините!
Мэри Фишер! Как бы я хотела, чтобы сегодня тебе подали на ужин розового консервированного лосося из какой-нибудь вздувшейся банки и чтобы ты заработала ботулизм. Увы, напрасны мои мечты! Мэри Фишер подают только свежевыловленного лосося, и, кроме того, ее чувствительное небо мгновенно распознало бы даже микродозу яда, который у едока попроще, погрубее, проскочил бы за милую душу. Как быстро, как деликатно она выплюнет попавший ей в рот недоброкачественный кусочек и спасет себя от верной гибели!
Мэри Фишер! Как бы я хотела, чтоб сегодня поднялась буря и чтоб у тебя в Башне повышибало все окна и чтоб волны ворвались внутрь и ты бы захлебнулась, хватая ртом воздух и воя от ужаса!
Я раскатываю тесто и вырезаю перевернутой рюмкой одинаковые кружки, потом собираю в комок ажурные обрезки и леплю из теста фигурку, очертаниями весьма напоминающую Мэри Фишер. Потом я включаю духовку, и она раскаляется все сильнее и сильнее; тогда я сую туда фигурку и жду; пока кухня наполняется диким чадом — даже вытяжка его не берет. Уф, хорошо!
Как бы я хотела, чтобы вся эта башня сгорела дотла вместе с Мэри Фишер, и запах жареного мяса разнесся над волнами! Я бы сама поехала и запалила ее логово, но я не умею водить машину. Я могу добраться до башни, только если меня туда свезет Боббо, но он больше не берет меня с собой. Сто восемь километров. Далековато, говорит.
Боббо, раздвигающий Мэри Фишер гладенькие ножки — ах, какая шелковистая кожа — и сующий, по своей давней привычке, палец туда, куда затем энергично последует его напряженное естество.
Я знаю, что он проделывает с ней все то же, что и со мной, потому что он сам мне рассказывал. Боббо верит в честность. Боббо верит в любовь.
— Потерпи, — говорит он мне. — Я не собираюсь тебя бросать. Просто я влюбился, а у любви свои законы, тут уж ничего не поделаешь.
Любовь, говорит он! Любовь! Боббо любит порассуждать о любви. А Мэри Фишер пишет о любви, ни о чем больше, кроме любви. Любовь — это главное, что нужно в жизни. Вероятно, я люблю Боббо, потому что он мой муж. Добродетельные женщины любят своих мужей. Но любовь в сравнении с ненавистью — чувство бледное, слабенькое. Одна суматоха, да хлопоты никому ненужные, а копни поглубже — безвыходность и тоска.
Вот, нагулявшись в саду, пришли мои дети. Мальчик и девочка, погодки. Мальчик стройненький, в мою мать, и такой же, как она, капризный. А девочка громоздкая, неловкая, как я сама, вечно ворчит, вечно чем-то недовольна — маскирует таким образом свою чрезмерную чувствительность и ранимость. А вот и кошка наша, и собака тоже тут как тут. Морская свинка возится, пофыркивает в своем углу. Я только что вычистила ее клетку. На плите булькает шоколад для мусса. Вот оно — счастье и конечный смысл неторопливой семейной жизни в тихом предместье. Это наша судьба, и мы должны быть довольны и счастливы. Из сточной канавы необузданных страстей — к ухоженным лужайкам супружеской любви. Вот наш путь.
Брехня все это, сказала, отходя в мир иной, моя бабка, мать моей матери, когда священник напутствовал ее обещанием вечной жизни.
4
Мать Боббо, Бренда, крадучись, пробиралась вокруг дома 19 по Совиному проезду, где жил ее сын. Она была шалунья, в отличие от ее куда более рассудительного сыночка. Бренда задумала поиграть с Руфью: тихонечко подкрасться к окну и прижаться к стеклу носом. «Ку-ку, а вот и я! — скажет она, усиленно шевеля губами и делая страшные рожи. — Карга страшная, свекровь ужасная!» Так она как бы извинится за то, что ей поневоле приходится играть в семье двойную роль, и положит удачное начало предстоящему вечеру: хорошая шутка — лучший способ забыть о любых семейных неурядицах.
Каблучки Бренды ступали по ухоженной лужайке, что не шло на пользу ни каблучкам, ни лужайке. Трава была аккуратно подстрижена. Руфь любила следить за своей лужайкой. Она управляла косилкой играючи, даже одной рукой — раз, два, и все готово, не то, что ее малорослые соседки, с которых вечно семь потов сойдет, пока они, проклиная все на свете, сражаются с перерослой травой. А все почему? Да потому, что они неделями попусту препираются с мужьями, пытаясь доказать, что подстригать лужайку — мужская работа.
Мать Боббо заглянула в окно кухни, где потихонечку кипел грибной суп, в который осталось только добавить ложку сметаны, да влить стопочку хереса, и одобрительно покивала. Она любила, чтобы все делалось, как положено — при условии, что занимался бы этим кто-то другой, не она. Проходя мимо столовой, она через открытую балконную дверь увидела накрытый на четверых стол, свечи в подсвечниках, начищенное до блеска серебро, сверкающий чистотой буфет — и восхищенно вздохнула. Серебро у Руфи всегда в идеальном состоянии. Пальцы у нее сильные: разок протрет, и уже ни пятнышка. Бренде, чтобы как следует почистить серебро, приходилось пользоваться электрической зубной щеткой — такая нудная процедура, просто ужас! Так что тут она, пожалуй, немного завидовала Руфи: завидовала тому, как ловко невестка управляется с серебром.
А вот тому, что Руфь имеет такого мужа, как Боббо, его мать, Бренда, не завидовала. Бренда своего сына никогда особенно не любила. Она относилась к Боббо хорошо, и к мужу своему она тоже относилась неплохо, но большой глубиной ее чувства не отличались.
Вечерний воздух наполнился ароматом цветов.
— Как замечательно она со всем справляется, — сказала мать Боббо своему мужу, Энгусу. — Повезло Боббо, честное слово!
Энгус стоял на садовой дорожке, терпеливо дожидаясь, когда у жены пройдет приступ игривости, и она наконец перестанет бегать от окна к окну. На Бренде было бежевое шелковое платье и золотые браслеты на запястьях — она одевалась как женщина «без возраста». На Энгусе был коричневый клетчатый костюм, коричневато-желтая рубашка и синий в крапинку галстук. Независимо от того, насколько состоятельны или бедны они были в тот или иной период их совместной жизни, Бренда всегда выглядела чуть элегантнее, чем того требовали обстоятельства, а Энгус почему-то всегда производил малость нелепое впечатление. У Бренды был аккуратный маленький носик и широко распахнутые, чуть удивленные глаза, а у Энгуса нос был большой и бесформенный, а глаза узкие, как щелочки.
Боббо носил костюмы серых тонов, белые рубашки и неброские галстуки. Он стремился производить впечатление человека серьезного и уравновешенного, делового, одним словом, человека, у которого каждая минута на счету, и уверенность в себе не показная. Нос у него был прямой, правильной формы и глаза как раз такие, как надо.
Бренда заглянула в окно гостиной и увидела там обоих детей перед телевизором. На столе стояли тарелки с остатками ужина. Дети были помыты, причесаны — в общем, готовы ко сну. Вид у них был здоровый и довольный, хотя и малосимпатичный. Впрочем, чего ждать от детей, которых произвела на свет Руфь?
— Она такая прекрасная мать! — шепнула Бренда Энгусу, сделав ему знак подойти поближе и оценить талант невестки. — Тут ей надо отдать должное. Верно?
Бренда потопала, постучала каблуком о каблук, стряхивая с туфель налипшую землю, и, продолжая обход дома, поравнялась с комнатой для стирки, где и обнаружила Боббо, который в эту минуту выбирал из стопки выстиранного и выглаженного белья свежую сорочку. Пока что на нем были только майка и трусы, но какие могут быть стеснения, когда этого самого Боббо Бренда когда-то купала голышом? Глупо было бы тушеваться, застав собственного сына полураздетым, разве нет?
Бренда не заметила аккуратные маленькие следы от укусов на плече сына, а может, и заметила, да решила, что его покусали какие-нибудь букашки. Безусловно, эти следы не могли быть оставлены зубами Руфи — у нее зубы были широкие, крепкие и неровные.
— Она такая образцовая жена! — сказала мать Боббо, едва сдерживая слезы умиления. — Ты только взгляни, сколько у нее белья переглажено! — Мать Боббо шла на любые ухищрения, чтоб только не брать в руки утюг. Какое было золотое время, когда они с Энгусом могли себе позволить жить в гостинице, где только пожелай — и тебе вмиг все почистят и отутюжат. — И Боббо, такой, право слово, примерный муж. Кто бы мог подумать! — И если при этом у нее промелькнула мысль, что ее сын самодовольный петух — это же надо столько времени разглядывать себя в зеркало, — то она сочла за лучшее об этом промолчать.
А Боббо, придирчиво изучая в зеркале свои ясные, безупречные по форме глаза, высокий умный лоб и чуть припухший рот, видел не себя, нет: он видел человека, который удостоился любви Мэри Фишер.
Одеваясь, Боббо пытался составить в голове некий прейскурант применительно к сексу. Ему было как-то спокойнее, когда любой интересующий его предмет удавалось представить в денежном выражении. Не то, чтобы он был скупердяй, отнюдь: с деньгами он расставался легко и даже охотно. Просто у него было ощущение, что жизнь и деньги — в сущности, одно и то же. Его отец, если не прямо, то косвенно, постоянно внушал ему эту мысль.

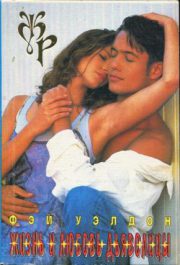
"Жизнь и любовь дьяволицы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Жизнь и любовь дьяволицы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Жизнь и любовь дьяволицы" друзьям в соцсетях.