Наивно полагать, размышлял судья, будто достаточно одного природного дара, чтобы тут же распознать лжеца. Нет, талант требует работы, его нужно неустанно развивать — и тогда обязательно увидишь: этот трет ухо, тот провел языком по пересохшим губам, другой на долю секунды отвел в сторону взгляд.
— Ну как, нравится?
— Да, конечно, господин судья. Изумительно!
— Это все моя благоверная. Она у меня наделена редким вкусом, вы не находите?
— Да-да, разумеется!
— И сама прехорошенькая! Как по-вашему?
— Очень, очень мила! Вам крупно повезло, господин судья.
Вранье, кругом одно вранье!
Леди Биссоп, хоть и была значительно моложе своего супруга, красотой не блистала. Поэтому он и остановил на ней свой выбор. Он всегда боялся поддаться соблазну красоты — боялся иронии судьбы. Примеров он наслушался и навидался на своем веку предостаточно. Пойдешь послушать концерт — вор тем временем умыкнет у тебя из дома дорогостоящий рояль; закажешь художнику портрет жены — глядь, она с этим же художником и сбежала; залюбуешься прекрасным цветком, начнешь растроганно изумляться вечному чуду творения — и в один миг твоя хватка ослабела, и мироздание покачнулось, и на тебя со всех сторон обрушиваются самые непредсказуемые беды. Если судья Биссоп мысленно рисовал себе образ Господа Бога, ему виделся великий небесный сценарист, который, как блины, печет забористые, но сомнительные по качеству сюжеты, обильно уснащая их самыми невероятными событиями, совпадениями и мотивировками.
Итак, леди Биссоп не принадлежала к тем женщинам, с которыми убегают художники и из-за которых может пасть Троя. У нее был большой нос и скошенный подбородок, тусклый взгляд и вечно скорбное выражение лица. Она родила судье двоих сыновей — оба получились похожими на нее, оба тихие, вежливые. Судья воспитывал их теми же методами, какими в свое время учили уму-разуму его самого; то есть, если они почему-то выводили его из себя, он хватал первое, что попадалось под руку — земля, песок, соль, — и запихивал им в рот. Тут были определенные неудобства, но способ отличался безопасностью для здоровья (если соблюдать чувство меры), быстротой и эффективностью. Чем старше становились дети, тем старательнее они следили за тем, чтобы никоим образом не досаждать родителю и не выводить его из равновесия. Он полагал, что им это только на пользу, и если леди Биссоп придерживалась другого мнения, вслух она его не высказывала.
Сам судья, даже в свои шестьдесят, был на редкость привлекательный мужчина — высокий, широкоплечий, с правильными чертами лица и завидным самообладанием. Густые, белые, как снег, волосы были всегда красиво подстрижены и уложены — каждую неделю он посещал парикмахера. Всякий раз, когда члены судейской коллегии заказывали групповой фотопортрет, судью Биссопа непременно ставили на передний план, потому что он выглядел именно так, как должен выглядеть настоящий судья — представительный, умудренный жизнью, строгий — но — справедливый.
Судья относился к своей работе серьезно. Он понимал, что по отношению к рядовому человеку он должен стоять выше и чуть в стороне — только так можно уберечь себя от промаха, обезопасить от подкупа. Он прекрасно знал, как редко встречаются люди, подобные ему самому, как мало, слишком мало тех, кто готов без трепета вонзить клинок правосудия в уязвимое тело общества; как тяжело одним махом перечеркнуть жизнь другого человека, который лично тебе ничего плохого не сделал; как странно обворовывать его, выхватывая из отпущенного ему земного срока куски величиной в несколько лет — год за то, полтора за это, десяток лет за что-то еще. Как угнетает, лишает покоя сознание, что именно ты должен сказать: это плохо, это еще хуже, а за это, голубчик, ты заплатишь сполна! Что ж, такая у него работа — работа, которая стала призванием. Он был рожден для нее.
Семейству судьи отводилась особая роль — смиренно нести свой крест; такова плата за счастье состоять в близком родстве с выдающейся личностью. Они всегда должны были помнить, что его ни в коем случае нельзя будить посреди ночи, нельзя докучать ему просьбами и досаждать болтовней. Они должны были существовать в принципе, потому что мужчине для эффективного функционирования во внешней среде нужно иметь за спиной прочный семейный тыл, где его неуемная энергия в сфере секса и деторождения будет удовлетворяться как и сколько угодно. Но они должны стараться, чтобы их было как можно меньше видно (и даже слышно) — то есть существовать не слишком явно.
Сколько бесконечных ночей провела леди Биссоп, шагая взад и вперед по комнате с плачущим ребенком на руках, — где-нибудь подальше от спальни судьи, в другом конце дома; сколько раз, когда мальчики немного подросли, она на рассвете пробиралась в детскую и часами шепотом с ними разговаривала, чтобы их звонкий щебет не потревожил его сон. Ну и что? Разве это не ее святая обязанность? Разве судьба несчастного на скамье подсудимых не зависит от того, с какой ноги он встанет утром? Пять лет тюрьмы или пятнадцать — есть разница?
Судья Биссоп не хотел оказаться отгороженным от потока нормальной человеческой жизни. Ему необходимо было постоянно припадать ухом к земле, чтобы улавливать глухие раскаты общественного мнения. В конце концов, он ведь слуга народа; но одновременно он должен уметь смотреть вперед — предвидеть и рассчитывать. Сегодня ты безжалостно расправился с насильником, а в недалеком будущем народные массы потребуют кастрировать всех, кто совершает преступление на сексуальной почве. Сегодня ты проявил снисхождение к двоеженцу и тем самым немного отодвинул печальное завтра, когда вообще все брачные установления будут отброшены за ненадобностью. Глас народа должен быть услышан, это так, но, с другой стороны, как же его услышишь, когда сам народ желает видеть судей там, куда молва не долетает, — восседающими в париках на высоких тронах, в залах суда, напоминающих более театры, чем общественные учреждения, где населению давались бы основные ориентиры, помогающие выбрать правильный курс в жизни?
Вот почему судья, когда выдавалась свободная минута, читал популярные газеты и при каждом удобном случае вступал в непринужденный разговор с теми немногими представителями населения, которые встречались на его пути, — разносчиками газет, официантами, парикмахером, продавщицами программок в оперном театре и, наконец, с собственными домочадцами.
Недавно его жена, воспользовавшись услугами агентства по найму, взяла в дом новую работницу — высоченную страхолюдину по имени Полли Пэтч. У нее были прекрасные рекомендации, справки об образовании и диплом квалифицированной детской нянечки. Жена предложила ей место прислуги с проживанием.
Судья Биссоп не верил, что новая прислуга задержится в доме надолго. Леди Биссоп без конца кого-то нанимала и увольняла и делала это с одинаковой легкостью. Вечером, впав в меланхолию, она делилась с горничной своими печалями, а наутро, слегка приободрившись, обвиняла беднягу в том, что та ведет себя бестактно, и указывала ей на дверь. Бессмысленно было пытаться восстановить справедливость — люди подневольные всегда целиком и полностью зависят от прихотей тех, кого они ублажают. Судья надеялся, что, может, Полли Пэтч сумеет продержаться хотя бы месяц-другой. Некрасивые люди возбуждали в нем интерес. Ему казалось, что им открыта какая-то иная реальность, иное знание, неведомые ему самому: Его жизненный путь, как он смутно ощущал, был слишком легок благодаря на редкость удачному стечению обстоятельств: импозантная внешность, обеспеченная семья, природный ум. Для родителей он был награда, для школы — находка, для профессионального цеха — гордость. И он подумал, что, быть может, Полли Пэтч, эта великанша, заслонявшая собой дверной проем и взвалившая на себя самое хлопотное и неблагодарное дело — ухаживать за чужими детьми, знает все тайны настоящей жизни как свои пять заскорузлых пальцев, и именно ей суждено просветить его на этот счет. Тогда наконец и он поймет, что в действительности творится вокруг.
Человеку, даже если это судья, необходимо некое мерило, которое можно приложить к себе самому, если он хочет знать, что он собой представляет. Судье достаточно было бровью повести — и его жена и дети моментально таяли, сливались с обоями, исчезали вовсе. Поди заставь исчезнуть Полли Пэтч! Вся шершавая, как наждачная бумага, притом крупнозернистая — не вдруг ее сотрешь.
Мисс Пэтч, к его большому облегчению, вела себя вполне «тактично», и поэтому опасность увольнения ей как будто не угрожала. Леди Биссоп сама ее немного побаивалась. Глаза у Полли Пэтч были навыкате, и временами в них вспыхивали красноватые искорки — возможно, оттого, что все комнаты в доме леди Биссоп были освещены ее любимым розоватым светом, — но, так или иначе, это невольно заставляло держаться с ней почтительно. Если сравнивать ее с женой, прикидывал судья, она будет раза в два больше — и в два раза умнее. Внешность у нее, конечно, подкачала — для женщины это серьезное Препятствие на пути к карьере и браку: вот и пришлось ей довольствоваться местом няньки при чужих детях. А может, она, как свойственно большинству женщин, просто тянется к теплу домашнего очага — уютные, мягкие диваны, огонь в камине, надежно запертые на ночь двери, раз и навсегда заведенный ритм работы и отдыха и негромкое урчание стиральной машины, усердно восстанавливающей, воскрешающей чистоту. И поскольку для нее самой все это недостижимо (женщине из низов не обойтись без поддержки и денег мужчины), она пытается приблизиться к этому идеалу единственным доступным ей образом — поступая в услужение к чужим людям в благополучный дом.
Судья поначалу отнесся к новому лицу в доме с некоторой опаской: проходившие перед его глазами мужчины и женщины — преступники, изгои, запутавшиеся неудачники, — как правило, отличались внешней непривлекательностью (конечно, случались исключения, и тогда у подсудимого было больше шансов рассчитывать на оправдательный приговор — в конце концов, судьи тоже люди). Он понимал, что было бы заблуждением полагать, что раз преступники все как на подбор отвратительны внешне, то и все откровенно некрасивые люди обязательно преступники; и тем не менее на дне души оставался какой-то неприятный осадок и внутренний голос шептал, что в этом утверждении есть своя правда. Кто знает, может, она наводчица и ее специально подослали, чтобы она как следует все проведала и затем помогла ворам лишить его имущества? Придешь однажды домой, а там ни красных ковров, ни рыжих диванов, ни ужасного столового серебра современной работы, ни сюрреалистических картин — ничего! Все украдено по ее наводке какой-то воровской шайкой. Может ведь такое быть? Но чем дальше, тем больше он в этом сомневался. У нее был неплохой вкус: она вывернула наизнанку тканевые пододеяльники на детских одеялах, обратив их наружу сдержанно-золотистой стороной и скрыв от глаз огненно-рыжую, так что теперь он не вздрагивал всякий раз, входя в комнату к детям поцеловать их на ночь. (Он свято соблюдал этот ритуал, прекрасно зная, что они только притворяются, будто спят. В этом мире все друг друга обманывают — почему его семья должна быть исключением?) И хотя хороший вкус сам по себе не является препятствием к совершению противозаконных действий, он говорит об отсутствии криминальной предрасположенности. И даже гораздо чаще приводит к тому, что его обладатель рано или поздно окажется в роли жертвы — не вора, а обворованного. Судья проникался к ней все большим доверием. Ему нравилось, как она легко, без усилий подхватывает расшалившихся детей — одного под одну руку, другого под другую — и быстро уносит их куда-нибудь подальше, чтобы их визги, писки и рев никому не действовали на нервы.
Но окончательно Полли Пэтч покорила его, когда он завел с ней разговор об арахисовом масле. Генри Биссоп строго-настрого запретил в своем доме употреблять арахисовое масло — ни с того ни с сего, словно с цепи сорвался, впав в безрассудную ярость от непроходимой тупости тех, с кем он вынужден был делить свою жизнь и труд, — то есть, по сути, всего остального человечества. Незадолго до этого и очень некстати группа исследователей в области социальной статистики, занимавшаяся изучением первопричин преступности, привлекла его внимание к тому обстоятельству, что подавляющее большинство правонарушителей в период времени, непосредственно предшествующий преступлению, потребляли арахисовое масло в ненормально больших количествах.
От такой явной подтасовки фактов под видом научной статистики его попросту затрясло: с первой же минуты для него было совершенно очевидно, что фигурировавшее в отчете арахисовое масло, этот корень зла, которому в исследовании отводилась такая сенсационная роль, на самом деле потреблялось во время предварительного заключения в тюрьме, где подследственные ожидали суда (арахисовое масло традиционно составляет основу тюремного рациона). Таким образом, исследователи вывели свое заключение на основании данных о лицах, уже подвергшихся наказанию, — деталь, которая совершенно выпала из поля зрения этих, с позволения сказать, ученых. Вот почему, когда в ходе судебного разбирательства представители защиты начинали жонглировать теми или иными эффектными, но не выдерживающими серьезной критики статистическими выкладками, стремясь выставить своих клиентов в более выгодном свете, а то и вовсе переложить ответственность на общество в целом (адвокаты очень любят клеймить безработицу или ссылаться на деградацию современного сознания вследствие отравления свинцом, на неправильное питание или безграмотность, которые якобы и приводят их клиентов на скамью подсудимых), — судье было достаточно остановить на красноречивом адвокате тяжелый взгляд и вслух заметить: «Я запретил держать в моем доме арахисовое масло. Не хочу, чтобы мои дети выросли преступниками», — и красноречия как не бывало: бедняги начинали сбиваться, путаться и, кое-как скомкав заготовленную речь, умолкали. Он просто шутил, да вот беда — никто этого не понимал.

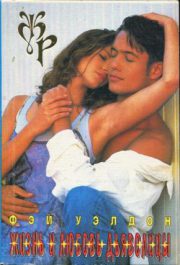
"Жизнь и любовь дьяволицы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Жизнь и любовь дьяволицы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Жизнь и любовь дьяволицы" друзьям в соцсетях.