— Очень кстати! — прокомментировала Полли, и они с судьей понимающе рассмеялись.
— Наглость этого прохвоста не знает границ, — продолжал судья. — Убедившись, что мелкое мошенничество благополучно сошло ему с рук, он стал прикарманивать чужие деньги без зазрения совести. Несколько месяцев подряд он переводил внушительные суммы — в общей сложности миллионы долларов — на свой личный счет, а оттуда в некий швейцарский банк на счет одной молодой особы, с которой он состоял в любовной связи.
— Так у него была любовница! — подхватила Полли. — Небось собирался сменить имя и начать с ней новую жизнь?
— Да, такой вывод напрашивается сам собой.
— А что же его несчастная жена? — спросила Полли. — Полагаю, он женат. Такие молодчики, как правило, женаты.
— Исчезла вскоре после пожара.
— Очень кстати! — снова сказала Полли. — Пусть скажет спасибо, что его обвиняют всего лишь в мошенничестве, а не в поджоге и убийстве в придачу!
— М-да, любвеобильный господин, — сказал судья, вытягивая свои длинные, отвыкшие от физической нагрузки ноги и переводя взгляд на ее ноги — массивные, волосатые. На ней были белые носочки и белые кокетливые тапочки, составлявшие разительный контраст ее смуглой коже и общему отсутствию кокетства в ее внешности, что навело его на раздумья о том, где та черта, разделяющая реальность и иллюзию, правду и вымысел, и его сознанием овладела странная неуверенность, и он уже начинал понимать, что единственным избавлением от этого неприятного чувства был бы бурный физический контакт с ней, а еще лучше — небольшое сексуальное истязание.
— Освободившись от жены, он перешел жить к своей любовнице — она у него писательница, сочиняет бульварные романы. Надо будет спросить мою благоверную, может, она что-то читала. Но на самом деле все это время он вынашивал план грандиозного побега, новой жизни — с новой, заметьте, спутницей и, главное, на денежки его клиентов.
— Похоже, ничего хорошего ему не светит, — сказала Полли Пэтч.
— Совсем не светит, — подтвердил судья. Грудь у нее была необъятная, как сама жизнь. Впрочем, она вся такая.
— Так что же все-таки ему помешало?
— Что-то помешало. Может, красотка надула его и сбежала с деньгами, а может, он просто ждал от нее условленного звонка — наверняка сказать трудно. К нему в контору как раз наведались ревизоры, заподозрили неладное, вызвали полицию, и дело пошло-поехало.
— Женщинам верить нельзя! — проронила Полли Пэтч, и судья порадовался, что она такая несовременная и позволяет себе откровенно антифеминистские высказывания, которые в прежние времена придавали пикантность и остроту общению мужчин и женщин, приятно будоражили воображение.
— Полагаю, обвинение может считать, что дело в шляпе, — сказала Полли.
— Думаю, да, — произнес судья. — Но защита настроена решительно, просто так они не сдадутся.
— Надеюсь, ему не удастся выйти сухим из воды, — сказала Полли. — Похоже, это отвратный и опасный тип.
Судья завороженно смотрел в темный провал ее рта. Она говорила с сильным пришепетыванием.
Жена заверила его, что как только десны заживут, ей вставят искусственные зубы, по крайней мере, на время, пока она дожидается косметической операции — ей будут на семь сантиметров уменьшать челюсть. Его давно подмывало поговорить с ней об этом.
— Болит? — решился он наконец.
— Само собой, болит, — сказала она, — как и положено. За все нужно платить, если хочешь чего-то добиться. И, наоборот, если ты готов заплатить соответствующую цену, то добиться можно практически чего угодно. В данном конкретном случае я плачу физической болью. У Андерсена русалочка хотела, чтобы вместо хвоста у нее были ножки, — и тогда ее дорогой принц полюбил бы ее. Она получила ноги и с ними, соответственно, все остальное. И с тех пор каждый шаг отдавался в ней такой болью, словно она ступала по ножам. А чего другого, спрашивается, можно ждать? Такая ей была назначена цена. Как и она, я сама сделала выбор — и не жалуюсь.
— А принц оценил ее жертву? — спросил судья. — Полюбил ее?
— Ненадолго, — сказала Полли Пэтч. Отблески огня придавали ее черным волосам красноватый оттенок. Судья взял ее руку в свою. Ему почему-то казалось, что рука должна быть теплой, но она была холодная. Полли вновь заговорила о бухгалтере.
— Кому доверяют больше других, — сказала Полли Пэтч, — тот больше других грешит, злоупотребляя доверием.
— Да, но у таких людей и искушение сильнее, — сказал судья. — Правосудие должно быть отмечено печатью милосердия, гуманности.
— А он проявлял милосердие к своим клиентам? — спросила Полли, и ее пальцы неожиданно нежно, ласково шевельнулись у него в руке. — А ведь это все писатели, художники, люди, не умеющие постоять за себя в нашем жестоком мире.
Судья, которому, в силу его профессии, чаще доводилось лицезреть писателей в роли плагиаторов, пасквилянтов и нарушителей авторского права, был не так уж уверен, что эта братия заслуживает большого сочувствия.
— Сколько вы ему дадите? — спросила она. Они сидели уже совсем близко, и его костистое, затянутое серой шерстяной фланелью бедро прижималось к ее бедру, упругому и широкому. В любой момент, завершив омовение, могла войти леди Биссоп.
— Год, — сказал он, — чуть больше, чуть меньше.
— Год?! Это после того, как несчастной, обезумевшей, умирающей женщине вы присудили целых три! Да он в сто раз хуже! Человек, облеченный доверием, позволяет себе хладнокровно, цинично, с преступным умыслом обманывать и подтасовывать — попросту плюет в лицо обществу, от которого он ничего худого не видел. Это будет скандал! С такой непростительной мягкотелостью вам никогда не стать Главным судьей.
— Так-то оно так, — сказал он, — но и один год для человека среднего класса, с привычкой к определенному уровню жизни, к положению в обществе, — это как другому все пять. Нельзя забывать, что он и так сурово наказан: прошел через унижение, его семья разрушена, он лишился всего — друзей, карьеры, пенсии!
— Простые люди, — сказала она, — как правило, действуют по наитию, их проступки более или менее случайны, а вот господа из среднего класса все заранее планируют и просчитывают. И наказывать их за это надо с удвоенной строгостью, а не вполсилы.
Чтобы заставить ее замолчать, он свободной рукой закрыл ей рот, для чего ему пришлось встать и склониться над ней. Все-таки, когда не видишь этого рта, как-то спокойнее — нет опасения, что тебя могут ненароком проглотить.
Она оттолкнула его и встала спиной к огню, выделяясь темным силуэтом на фоне пляшущих языков пламени. Ни с того ни с сего огонь с громким треском взметнулся вверх.
— Вы обязаны выслушать меня, — сказала она, — ибо я глас народа, и другого случая приблизиться к народу, хотя бы на такое же расстояние, у вас не будет.
— Слушаю, — сказал он. И в самом деле, она стояла, заслоняя собой огонь, словно статуя Свободы в нью-йоркской бухте или фигура Фемиды, украшающая Дом правосудия в Лондоне, — олицетворение закона, сам закон во плоти. Судья смотрел на нее во все глаза и слушал во все уши.
Леди Биссоп вошла в комнату, завернутая в синий махровый халат, вызывавший у него особое отвращение.
— Морин! — рявкнул судья. — Иди спать!
Леди Биссоп дрожащим голосом спросила, может ли она поговорить с судьей с глазу на глаз. Полли Пэтч моментально покинула комнату.
— Прошу тебя, не рискуй, — взмолилась леди Биссоп. — Если Полли обидится и уйдет — что мне тогда делать? Я так привыкла во всем на нее полагаться.
— Радость моя, — сказал он, — позволь мне самому судить о том, что тебе на пользу, а что нет. Пожалуйста!
И леди Биссоп, успокоенная, отправилась спать, а судья проследовал вместе с Полли в гостевую комнату, где пробыл два часа. Он был человек долга, и ночным развлечениям отводил строго определенное количество времени, чтобы наутро встать свежим и отдохнувшим. Полли понимала его — она вообще многое понимала — и не просила его остаться.
На следующее утро, когда все собрались к завтраку, Полли приступила к своим обычным обязанностям — вытирала подбородки, искала затерявшиеся шнурки, — как всегда, бодрая и энергичная; что до леди Биссоп, то она, не потревоженная никакими знаками супружеского внимания, прекрасно выспалась, и ее синяки и ссадины могли спокойно заживать, — в общем, она сразу оценила все преимущества нового распределения ролей в доме. Она даже отправилась в город и привела в порядок волосы — такую она вдруг ощутила бодрость духа, такой моральный подъем.
Судья же, обнаружив в Полли гораздо более отзывчивого сексуального партнера, нежели его жена, избавился наконец от чувства вины, и, по-новому взглянув на окружающий его мир, нашел, что он не так уж плох. Пожалуй, судья был счастлив. Он стал менее суров с детьми. Им теперь даже разрешалось играть в саду — его уже не так беспокоило, что они могут нечаянно засадить мячом в какое-нибудь растение и сломать его. Он замечал, как жена у него на глазах все больше впадает в детство, но даже это его почему-то не трогало. Наконец, он решил более равномерно распределять в течение месяца вынесение приговоров, и хотя поначалу это вызвало небольшой переполох у его подчиненных, они скоро перестроились на новый режим. По ночам судья проводил с Полли несколько приятных часов (правда, ему приходилось попотеть), привязывая ее за руки и за ноги к кровати и отхаживая ее старинной бамбуковой выбивалкой для ковров.
— Больно я тебя ударил? — спрашивал он.
— Да, очень больно, — отвечала она вежливо.
— Я не садист, — заявил он однажды. — Это у меня такая реакция на работу.
— Я понимаю, — сказала она, — прекрасно понимаю. То, что вы обязаны делать в силу служебного долга, противоестественно, и это форма вашего внутреннего протеста.
Он почти любил ее. Она, по его мнению, была потрясающе умна и прозорлива.
Леди Биссоп пришла к выводу, что пурпурный слишком бьет в глаза, и все ковры в доме заменила на коричневатые, на восемьдесят процентов состоящие из натуральной шерсти, и в результате дом стал похож на другие дома, если не считать того, что происходило здесь по ночам в. гостевой комнате. Леди Биссоп даже начала понемногу принимать у себя, поскольку теперь муж относился к ее друзьям без прежней обостренной подозрительности и даже допускал, что у них могут быть иные намерения, кроме как посмеяться над ним либо изучить планировку дома и затем его ограбить.
Между тем встал вопрос об освобождении злополучного бухгалтера под залог. Полли Пэтч была категорически против.
— Но он отсидел в тюрьме целый год, — удивился судья, — До суда, заметь!
— Ну, всем же ясно, что он виновен, — сказала Полли. — И не только в мошенничестве, если на то пошло. Так что приберегите жалость для тех, кто ее заслуживает. Добропорядочные семьянины, простые трудяги, которые наломали дров сгоряча, но уж если дали слово, будут его держать, — вот кто заслуживает, чтобы их отпускали под залог. Но этот человек!.. Разве можно доверять такому?
— Деньги обязуется внести его любовница. Судя по всему, она готова потратить на него целое состояние. Если человек способен внушить такое чувство, он не может быть абсолютно порочен.
— Еще как может, — заявила Полли. — Она любила его, а он ее предал. Он жил с ней, а спал с другими. Он вынашивал план бросить ее. Так с какой же стати теперь он будет ей верен? Нет! Пусть несчастная женщина сохранит хотя бы свои деньги. Не будет ему никакого залога, говорю я! Иначе он попросту не явится в суд — ищи его тогда где хочешь.
Судья отклонил ходатайство защиты. И Боббо снова вернулся в тюрьму дожидаться суда.
Дантист вставил Полли Пэтч ряд сверкающих временных зубов, и теперь она меньше шепелявила и выговаривала слова гораздо отчетливее. Судья был этим даже слегка опечален. Он успел полюбить глухие раскаты невнятных звуков, вырывавшихся из темного лабиринта ее глотки. Ему нравилось проталкивать язык в свежеобразованную расщелину в десне, и проводить по крошечным, сточенным пенькам — все, что осталось от коренных зубов. В то же время она теперь стала выглядеть более заурядно и лучше вписывалась в изменившуюся обстановку и атмосферу дома.
Иногда у него возникало желание узнать, откуда взялась Полли Пэтч и куда она держит путь; впрочем, это случалось нечасто. Он давно привык к тому, что люди возникают перед ним из ниоткуда, словно выхваченные ярким лучом прожектора, прямо посреди зала суда — только для того, чтобы вновь исчезнуть где-то в темноте, за границей светового круга; и, быть может, именно благодаря своей профессии, а не вопреки ей он редко задавал вопросы. Он не обладал пытливым умом. Ему это было просто ни к чему. Задача судьи — терпеливо ждать, когда факты сами заявят о себе, а вынюхивать и выведывать — не его работа. Для этого есть другие.

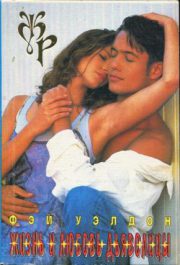
"Жизнь и любовь дьяволицы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Жизнь и любовь дьяволицы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Жизнь и любовь дьяволицы" друзьям в соцсетях.