— Осторожно, двери закрываются, следующая станция «Москва-пассажирская», — словно с набитой кашей ртом, скороговоркой пробормотал машинист, и, громко зашипев, двери захлопнулись.
Вздрогнув, электричка на какое-то мгновение застыла, а потом, издавая скрежещущие страдальческие звуки, стала медленно разгоняться. Пассажиры, засуетившись, потянулись за авоськами и тюками. Громко переговариваясь, люди снимали с полок свою бесценную поклажу, заранее передвигая коробки и сумки на колёсиках поближе к проходу.
— Петь, ты ведро со смородиной не забудешь?
— Вика, крепко держи папу за руку, чтобы от него — ни на шаг!
— Надежда Фёдоровна, я здесь, у задней двери, продвигайтесь ко мне!
Марья вставать с места не спешила, решив не участвовать в общей давке. Стряхнув с себя последние остатки сна, она выдвинула из-под сиденья большую хозяйственную сумку, собранную для неё родителями, и, приподняв её от пола, тяжело вздохнула. Конечно, наполняя сумку банками со свежим вареньем, родители хотели её побаловать, но такая тяжесть по сорокоградусной жаре могла свалить с ног кого угодно. Марья горестно посмотрела на неподъёмную сумку, и из её груди вырвался громкий вздох.
— От чего будем избавляться вначале: от соленья или варенья? — совершенно неожиданно прозвучало у Марьи над ухом. Обернувшись, она увидела, что за её спиной, у соседней лавочки, стоит симпатичный кареглазый мужчина лет сорока и, весело улыбаясь, смотрит на её неподъёмную ношу.
— Первым делом избавляться будем от вас, — сурово посмотрев на незнакомца, Марья сдвинула брови.
— А мне почему-то кажется, что я вам ещё пригожусь. — Мужчина, не долго думая, встал ногой на лавочку, и не успела Марья ойкнуть, как он, ловко перекинув своё тело через деревянную перегородку спинки, переместился в её отсек.
— Что вам от меня нужно, я не знакомлюсь с посторонними мужчинами в общественном транспорте. — Ощущая неловкость, Марья незаметно осмотрелась по сторонам.
— Вообще-то в мои планы не входило с вами знакомиться, но если вы так настаиваете, извольте: меня зовут Семёном, хотя для вас — просто Сёмушка. — С лёгкостью подхватив тяжёлую сумку Марьи, он лучезарно улыбнулся. — Где мы живём?
— Мы?! — опешив от такой неожиданной атаки, Марья попыталась нахмуриться, но, вопреки самой себе, почему-то улыбнулась. — А почему вы так уверены, что я стану называть вас Сёмушкой?
— Потому что сорок лет назад это имя мне дали мои родители, и, согласитесь, сейчас что-либо менять, даже ради такой красивой девушки, как вы, явно поздно, — непосредственно улыбнулся он.
Заскрипев тормозами, поезд остановился, и динамик, издавая нечленораздельно-хриплые звуки, сообщил о прибытии на конечную станцию.
— Так куда мы везём сумку? И как нас зовут? — переспросил Сёмушка, и в его глазах запрыгали смеющиеся зайчики.
— Сумку… Сумку мы везём на «Киевскую», а зовут нас Марьей, — неожиданно для себя произнесла она, и впервые за последние несколько лет на её лице появилась беззаботная и по-детски светлая улыбка.
— Любочка, на месте?
— Да, Вадим Олегович.
— Будь любезна, вэц-цамое, два кофе, один со сливками и, если можно, поскорее. — Щёлкнув, селектор умолк, и в секретарской наступила тишина.
— И поскорее, — машинально повторила Люба, копируя гнусавую интонацию шефа, и, отодвинув стул, встала из-за стола.
Обращение босса «Любочка» раздражало её до предела, но открыто высказывать своё неудовольствие она не решалась. Возможно, для ее тридцати «Любовь Григорьевна» и впрямь звучало бы несколько помпезно и не по возрасту, но она уж, как ни поверни, заслужила, чтобы ее называли просто Любой.
Две недели назад Вадиму Олеговичу исполнилось сорок восемь, он был моложе Берестова ровно на десять лет, но в свои почти шестьдесят Иван Ильич мог дать этому «юнцу» любую фору и всё равно обойти на финише. Зарайский был невысок, сухощав, с намечающейся лысиной и маленькими бегающими глазками неопределённо-мутного цвета. Чтобы скрыть свой небольшой рост и сутулость, он старался носить ботинки на высоком наборном каблуке и ходить в костюмах, сшитых специально по его фигуре в ателье; но ни дорогие пиджаки, ни стильные туфли не могли придать ему той роскошной неотразимости и кошачьей грации, которая была заложена в Берестове от рождения.
Обладая хорошей жизненной хваткой и острым умом, Зарайский медленно, но неуклонно двигался наверх, без мучений и колебаний перешагивая через головы и врагов, и друзей. Расчётливый, холодный и откровенно жадный, каждый пятилетний юбилей своей жизни он отмечал в новом кресле, никогда не жалея о сделанном и никогда не считая себя хоть в чём-то неправым.
Наблюдая за каплями, просачивавшимися сквозь потемневшее сито кофеварки, Люба вдыхала горьковатый запах «Арабики» и вспоминала годы, проведённые под начальством Берестова. Конечно, у Ивана Ильича были свои недостатки, но ни мелочностью, ни тем более скупостью он никогда не страдал. Требуя от людей порядочности и добросовестного отношения к своим обязанностям, он не изводил подчинённых по пустякам и не заставлял, подобно Вадиму Олеговичу, на каждый вдох и выдох писать объяснительные записки и заявления.
— Любочка, что там у нас с кофе? Я же, вэц-цамое, просил побыстрее, — голос босса был явно недовольным.
— Сейчас будет готово, Вадим Олегович, — мелодично произнесла Люба и тут же услышала щелчок — отключилась селекторная связь.
Да провались ты, в самом деле! Ну как можно приготовить кофе быстрее? Сесть на кофеварку сверху? Он же просил, подумать только! Раздражённо брякнув чашкой о блюдце, Люба бросила негодующий взгляд в сторону начальнической двери, обитой вишнёвым дерматином.
Признаться честно, несмотря на стремление относиться к новому шефу хотя бы нейтрально, в Зарайском её раздражало практически всё: чего только стоила его дурацкая манера говорить, нараспев растягивая слова и при каждом нужном и ненужном случае вставляя идиотскую присказку «это самое». Ладно бы ещё, если бы он хотя бы брал себе за труд проговаривать буквы набившей оскомину фразы, так ведь нет: едва-едва шевеля губами, Зарайский склеивал все звуки в одно нечленораздельное мычание и усиленно вытягивал «ц», будто скользил на ровном месте, когда, сдвигая узкие брови углом, через слово сообщал: «Вэц-цамое».
— Вадим Олегович, кофе, — приоткрыв дверь кабинета шефа, Люба очаровательно улыбнулась.
— Вэц-цамое, спасибо, Любочка, пока можешь быть свободна, если ты мне понадобишься, то я, вэц-цамое, тебя вызову. — Постучав по столешнице пред собой, будто подсказывая, куда можно поставить поднос с дымящимися чашками, Зарайский махнул ей рукой в сторону двери.
— Хорошо, Вадим Олегович. — Люба, бесшумно выскользнув, плотно прижала дерматиновую дверь рукой и, подражая мычащей манере начальника, сдвинула брови углом: — Вэц-цамое!
Мычащая манера шефа говорить раздражала Любу до крайности, и если бы этим странные закидоны начальника ограничивались, то, скорее всего, она легко бы притерпелась к подобной причуде. Но неприятная особенность растягивать и коверкать слова была самым безобидным изъяном в общем наборе черт характера и привычек, выделенных Зарайскому природой. Обращаться к нему с какой-либо внештатной просьбой было делом не только унизительным, но, что самое главное, абсолютно бесполезным. Нет, конечно, он мог посодействовать в каком-то несущественном вопросе, но с двумя заметными оговорками: во-первых, он готов был помочь, если, кроме росчерка пера, никаких усилий больше прилагать не требовалось, и, во-вторых, если просимое не переходило в область незаконного.
Заправив лист бумаги в пишущую машинку, Шелестова пододвинула к себе приказ, набросанный боссом в черновике, и, думая о своём, принялась за дело. Барабаня по клавишам, Люба посматривала на дверь кабинета второго, а мысли её были далеко, в родных Озерках, где на летних каникулах гостил у бабушки с дедушкой Минька.
Два месяца всё шло благополучно, а неделю назад, с первых чисел августа он вдруг начал подкашливать. Сначала ничего не предвещало беды. Напоив внука сладким чаем с малиной, старики закутали его, словно куколку, в огромное ватное одеяло и, пожелав доброй ночи, уложили спать. Но на следующий день кашель усилился, и, несмотря на все старания Григория и Анфисы, к вечеру у Миньки поднялась температура.
Пока ртутный столбик держался на тридцати восьми и одной, Шелестовы списывали плохое самочувствие мальчика на простуду, но когда серебристая полоска перекинулась через тридцать девять, они обеспокоились всерьёз. Ни малина, ни мёд, ни проверенный годами безотказный анальгин не помогали: отвоёвывая одно деление за другим, ртуть поднималась всё выше, и к ночи, наводя на Шелестовых настоящую панику, она перешла через отметку сорок.
Закрыв глаза, Минька лежал пластом, беспомощно вытянув вдоль тела загорелые руки, и из его груди, перемешиваясь с глухим хриплым кашлем, вырывалось неровное горячечное дыхание. Абажур старенькой настольной лампы, верой и правдой служившей ещё Любане, был прикрыт газетой, и на лицо мальчика падал рассеянный, слабый свет. Разбавив водку водой, Анфиса обтирала его горящее тело, а Григорий, посматривая на часы и что-то бормоча себе под нос, подобно маятнику, метался по горнице из угла в угол. К утру температура начала спадать, и Григорий, дождавшись шестичасового автобуса, поехал в город за врачом, а к двенадцати дня Шелестовы уже знали точно: у внука двустороннее воспаление легких. Наскоро перекусив, в тот же день на часовом автобусе Шелестов снова поехал в райцентр, только уже не за врачом, а на почту звонить дочери…
— Любочка, вэц-цамое, можешь забрать из кабинета чашки, — придерживая гостя под локоть, словно больного, Вадим Олегович мельком взглянул на Любу и, покровительственно кивнув, снова сосредоточил своё внимание на важном посетителе. — Значит, вэц-цамое, Борис Евгеньевич, как договаривались: на торжественном вечере, посвящённом пятидесятилетию образования СССР, вы, вэц-цамое, выступаете с речью, а уж мы постараемся украсить зал, вэц-цамое, и всё такое, чтобы при полном параде.
— Да, уж вы проследите за всем этим лично: чтобы явка была стопроцентная и чтобы всё празднично, — закивал головой тот.
— Да-к что ж, вэц-цамое, мы лицом в грязь не ударим, — заверил его Зарайский. — Я, вэц-цамое, дам задание, профком нарисует плакаты: «Наша Родина — СССР», «Русский, вэц-цамое, — язык межнационального общения». — Откинув корпус назад, Вадим Олегович провёл по воздуху ладонью, разглаживая пока еще несуществующий плакат на стене, и, широко улыбнувшись, взялся за ручку двери приёмной. — Так мы, вэц-цамое, можем рассчитывать на ваше выступление?
— Непременно. До встречи. — Протянув руку, Борис Евгеньевич задержался у дверей и, дождавшись горячего рукопожатия Зарайского, боком вышел из кабинета.
— Ф-ф-у-у, — проведя рукой по лбу, Зарайский повернулся к Любе. — Давай, вэц-цамое, по чайку, что ли, умотал он меня, окаянный.
— Одну минуту, Вадим Олегович. — Люба проверила уровень воды над электроспиралью и воткнула вилку чайника в розетку.
— Когда будет готов, занеси. — Обойдясь на этот раз без своей любимой присказки, Зарайский ослабил узел галстука и, уверенный в том, что его приказание будет немедленно исполнено, сделал несколько шагов по направлению к своему кабинету.
— Вадим Олегович, — голос Любы остановил его на полпути, — крайне неловко просить вас об одолжении, но мне необходимо взять следующую неделю за свой счёт.
— Что? — Не дойдя до дверей кабинета нескольких шагов, Зарайский остановился. — Как это, за свой счёт? А как же, простите, работа?
— У меня тяжёлые семейные обстоятельства. — В узких маленьких щёлочках глаз босса плеснулось что-то, похожее на удивление, и, осёкшись на полуслове, Люба замолчала.
— Милочка, вэц-цамое, а кому сейчас легко? — Прищурив мутные крохотные глазки, Зарайский внимательно посмотрел на секретаршу, и его нижняя губа, оттопырившись, почти полностью закрыла верхнюю. — Сейчас всей стране тяжело, такое, вэц-цамое, лето выдалось, ничего не поделаешь.
— Вадим Олегович, у меня болен сын, и мне необходимо уехать из Москвы хотя бы на неделю.
— Любочка, все дети имеют тенденцию болеть, — улыбаясь одними губами, авторитетно резюмировал он, — но это совсем не значит, что, вэц-цамое, вся страна должна взять неделю за свой счёт.
— Вадим Олегович, у Миши воспаление лёгких, — стараясь не взорваться и ни в коем случае не показать, что она на взводе, Люба изобразила на лице тёплую улыбку и придала голосу мягкое просительное выражение.
Если бы было возможно, то она, наверное, не медля ни секунды, вцепилась бы ногтями в эту непроницаемо-сухую, гадкую физиономию, но от Зарайского сейчас зависело, сможет ли она уехать сегодня же вечером к больному ребёнку, и, заставляя молчать своё самолюбие, Люба продолжала заискивающе улыбаться.

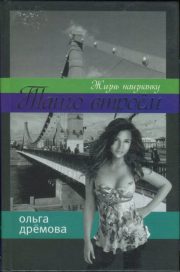
"Жизнь наизнанку" отзывы
Отзывы читателей о книге "Жизнь наизнанку". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Жизнь наизнанку" друзьям в соцсетях.