— Вторая? — Анастасия, поняв, что на другом конце провода ждет Марья, сорвалась со стула и, подхватив сумку, бегом бросилась к кабинке.
— Что за народ пошёл? — сквозь зубы, едва слышно прошептала Катька. — То сидит, как приклеенная, не оторвёшь, то бежит, как на пожар. — Ты дверь-то поплотнее прикрой! — вдогонку крикнула она и, едва дождавшись, пока Анастасия скроется за глухой стеклянной дверью, плотно прижала ухо к трубке.
— Алло, Машенька, ты меня слышишь? Алло! — встревоженный голос Анастасии резанул Катьку по ушам, и, сморщившись, как от кислого лимона, она отодвинула трубку от уха подальше.
— Да, мамочка, я тебя слышу! Как ты? — видимо, из-за большой удалённости голосок Марьи был плохо различим, и, чертыхнувшись, вездесущая почтальонша снова приникла к аппарату. — Мамочка, что случилось? Что-то с папой?
— Нет-нет, доченька, с папой всё в порядке, — зачастила Анастасия, — за него не волнуйся, с ним всё хорошо!
— И вот несут всякую ахинею, говорили бы уж по делу, а то — как ты? что ты? — беззвучно, одними губами прошелестела Катька и, осуждающе глянув через стеклянную перегородку на Анастасию, поджав губы, недовольно дёрнула шеей.
— Алло! Машенька! Ты меня хорошо слышишь? — громко переспросила Голубикина.
— Ты когда-нибудь скажешь, в чём дело, или нет? — беззвучно возмущаясь, Катька раздула ноздри и с плохо скрываемым негодованием взглянула на нерешительно переминающуюся с ноги на ногу Анастасию.
— Мама, что случилось? — голос Марьи был очень далёким, но даже при такой ужасной слышимости в нем можно было разобрать тревожные нотки.
— Машенька! Сегодня ночью умерла мама Кирилла, тётя Анна, послезавтра похороны, если сможешь — приезжай, — видимо, думая, что Марье её слышно так же плохо, Анастасия почти прижала холодную скользкую трубку к губам. — Ты поняла меня? Алло! Маша?
— Что?
— Умерла мама Кирилла, Анна, послезавтра хороним!
— Анна?.. Это ж которая, Кряжина, что ли? — Недоверчиво бросив взгляд на переговорную кабинку с цифрой «2», Катька от удивления чмокнула прямо в трубку.
— Тётя Аня?.. — потрясённо повторив имя, на какое-то мгновение Марья затихла, а потом, с трудом заставляя себя выговаривать слова, медленно проговорила: — Мама, а Кирюша об этом знает? Ему кто-нибудь звонил?
— Дядя Ваня Смердин, сосед Шелестовых, сегодня поехал в Москву. Мы подумали, из райцентра до Мурманска не дозвониться, да и телеграмму из Москвы сподручнее отослать, быстрее дойдёт. Я пока не знаю, как он съездил, потому что назад он успеет только к вечернему автобусу, но, думаю, он всё сделает, ты ж его знаешь, какой он есть.
— Что, мамочка, я не расслышала?
— Я говорю, лучше дяди Вани с этим никто не справится! — громко крикнула Анастасия, но в этот раз Катька-Облигация, наученная горьким опытом, вовремя успела отстранить трубку от уха, и крик Голубикиной не повредил её барабанной перепонке. — Так тебя ждать, дочка?
— Да, я обязательно буду!
— Тогда до послезавтра, я тебя целую, милая!
— Я тебя тоже!
— Ну, начались муси-пуси! — Поняв, что ничего интересного больше не услышит, Катька осторожно положила трубку на рычаг.
— Сколько с меня? — выйдя из дверей кабинки, Голубикина открыла кошелёк.
— Пятьдесят восемь копеечек!
Привстав со стула, Катька-Облигация чуть ли не до половины туловища высунулась из полукруглого окошка и ждала, что с ней поделятся услышанным, но её надеждам не суждено было сбыться. Анастасия достала из кошелька три монеты по двадцать копеек, положила их на тарелочку перед окошком и со словами «без сдачи» пулей выскочила на улицу.
Заливая землю тусклым янтарём позднего сентября, словно на счастье, осень день за днём щедро бросала под ноги золотые монетки листьев тополей и осин, а по ночам, горько сожалея о своей бездумной расточительности, принималась перебирать разбросанные жёлтые кругляшки холодными пальцами и превращала несметное раздаренное богатство в жалкие тёмные медяки. Застывшие по ночи бурыми слюдяными пластинками, к полудню листья прогревались и, размякнув на земле клочками потемневшей обёрточной бумаги, наполняли воздух над деревенским кладбищем терпким запахом прели и едва уловимым ароматом подгнившей мёрзлой травы.
— Сам Един еси бессмертный, сотворивый и создавый человека: земнии убо от земли создахомся и в землю тую жде войдё-о-ом… — разластывая бархатистые нотки низкого голоса над едва колеблемой ветром кладбищенской тишиной, отец Валерий читал отходную по Анне, и его глаза, устремлённые в далёкое пространство, были наполнены какой-то торжественной пустотой, недоступной для понимания простых смертных.
— Вроде как Анна, а вроде как и не она, — едва заметно шевеля губами, тихо прошептал Шелестов и, подтолкнув локтем стоявшую рядом с ним жену, кивнул на маленькую, худенькую фигурку, едва видневшуюся из-за бортов свежеструганых досок гроба.
Сложив ручки на груди, Анна и впрямь выглядела неправдоподобно маленькой и сухой, будто лёгкая, тёмная щепочка, по случайности отколовшаяся от ствола. Закинув голову назад и устремив в небо заострённый узкий подбородок, она лежала неподвижно, но, когда по верхушкам старых, раскидистых деревьев пробегал ветер, на её бледном, словно восковом, лице мелькали замысловатые тени, и тогда казалось, что, внимательно прислушиваясь к словам батюшки, она одобрительно улыбается.
— …якоже повелел Еси, создавый мя, и рекий ми: яко земля еси и в землю отыде-э-эши… — обращаясь к Небесам, святой отец вскинул голову, длинно посмотрел сквозь просветы ветвей в сентябрьскую синь, и на какой-то миг его ярко-зелёные глаза, будто слившись с вечностью, стали почти прозрачными.
— Как подумаю, что ей всего сорок восемь было, так мороз по коже. — Стараясь не глядеть на лицо Анны, Анфиса с трудом протолкнула застрявший в горле тугой, неподдающийся ком.
— Будет тебе. — Словно прочитав мысли жены, Григорий нащупал своими шершавыми, загрубевшими пальцами руку Анфисы и, слегка сжав ладонь, понимающе выдохнул: — Ты на себя-то всякую беду не примеряй, а не то она быстро в дом зачастит.
— Так ведь я Анны на пять лет старше, — сорвавшись с шёпота, голос Анфисы дрогнул.
— И что с того? Вон, поди ж ты, Салтычихе девяносто восемь, а может, и все сто давно, никто ведь не знает, — мотнув головой назад, куда-то в сторону деревни, Григорий недовольно насупился.
— И что?
— А ничего. Живёт себе потихоньку, сопит в две дырочки и помирать не торопится.
— Так то — Салтычиха, она и двести проживёт, такое барахло разве кому требуется? — Поправив на голове чёрный платок, Анфиса качнула головой и поджала губы.
— …а можи все человецы пойдём, надгробное рыдание, творящее песнь…
— Зря наша Любанька на себя брюки нацепила, — скосив глаза на стоявшую поодаль дочь, Григорий напряжённо повёл шеей, — вон, вся деревня на неё таращится, словно на жирафа в зоопарке. Чёрт-те что и с боку бантик, уж могла бы на похороны, как положено, в юбке явиться! — Григорий, ловя осуждающие взгляды соседей в сторону Любы, низко нагнул голову, и Анфиса увидела, как под загорелой кожей на скулах мужа стали расплываться горячие пятна малиновой темноты.
— И чего ты к ней цепляешься, она же городская, у них в Москве все так ходят, — попыталась урезонить раскипятившегося мужа Анфиса.
— Машка тоже городская, однако на то, чтоб отца с матерью не позорить, ума хватило. — Сжав зубы, Шелестов заиграл желваками скул. Шурша засохшими зубчиками, плакали редкими золотыми слезами берёзы; поднимаясь к самому Богу, уносились в звонкую синь вечности слова заупокойной молитвы, а в ушах Григория, отдаваясь многократным эхом, плыли густые волны переполнявшего его стыда.
— Ты глянь, Гришка сейчас со сраму под землю ухнется! — толкая мужа в бок, многозначительно повела бровями Вера. — Ты видел, какую гадость на себя их Любка нацепила? Это же додуматься надо было!
— А ей идёт. — Архипов, сосед Шелестовых, покосившись на жену, представил свою упитанную половину в городском брючном наряде и еле удержался, чтобы не прыснуть со смеху. — А ты, Верк, сознайся, из зависти Любку чернишь? Небось сама была бы не прочь щегольнуть, да на твои окорока ни одне штаны не налазают?
— Ах ты, охальник ты эдакий! — чуть не поперхнулась от возмущения Вера. — Что ты такое говоришь? Да я бы никогда не насмелилась на похороны в портках заявиться, тем паче к свекрови!
— Какая ж она ей свекровь, когда её Кирюха на Марье женатый? — одёрнул жену Архипов.
— Да мало кто на ком женат, Любка ей внука родила, — резонно возразила та.
— Если бы не покойный Савелий, царство ему небесное, никогда бы Кирюха на Марье не женился, — вступил в разговор стоявший неподалёку Смердин.
— Кто б на ком женился, а кто — нет, — это ещё тот вопрос, — шевельнув приплюснутыми широкими ноздрями, приглашённый на похороны Филька, вдовый мужичок лет шестидесяти из соседней деревни, сипло хлюпнул носом. — Я вам так скажу: Кирюха — ещё тот жук, не позарься он на Машкино приданое, ничего б из ентой затеи с женитьбой, окромя фантиков, не вышло. Не таковский был Савелий, оглоблю ему в дышло, штоб единственного сына в распыл пустить.
— Да ты Савелия не знал, он же не отцом — волком был. Убил бы парня, как есть, убил бы и бровью не повёл, — мотнул головой Архипов.
— Коли бы схотел — взял бы Кирька шапку в охапку да со своей Любкой мотанул, куды глаза глядели. — От усердия и для большей убедительности Филька слегка согнул колени и пристукнул по замызганной линялой штанине рукой. — А он, Кирька-то, о-о-ой, хапливый! Просчитал, что вмиг, без отца, без матери, может себе капиталу нажить, а Любка от него и так никуды не девается!
— Э-эх, не знал ты, Филька, Савелия, он бы сдох, а Кирюшку из-под земли достал и мозги из него вышиб, — повысил голос Архип.
— Да тихо вы, кажись, отец Валерий читать кончил, — цыкнула на мужчин Вера и, потихоньку отделившись от общей толпы, двинулась ближе к могиле; за ней потянулись остальные.
Народу проститься с Анной собралось много. Подходя к гробу, люди наклонялись над узеньким сухеньким личиком с заострённым подбородком, целовали Анну в холодный лоб, клали в ноги цветы и, бросая сочувственные взгляды на Кирилла, отходили в сторону, уступая место следующим.
Глядя на бесконечную людскую цепь, Кирилл чувствовал, как противно дрожат его колени и как где-то у самого горла бешено колотится горячей птицей сердце, и боялся только одного: поддавшись слабости, упасть. Словно в далёком, чужом сне, он видел, как накрывали крышкой гроб, и слышал, как, разносясь по кладбищу гулкими ударами, молотки загоняли в упругую свежую древесину блестящие гвозди. Ещё полностью не осознав своего одиночества, Кирилл нетерпеливо ждал того момента, когда, распрощавшись друг с другом, эти чужие навязчивые люди со своей назойливой жалостью наконец-то разойдутся по домам и, отдав последний долг той, для которой уже не существовало ни долгов, ни обязательств, оставят его в покое.
— Кирюшенька, если что, так ты заходи, не стесняйся…
— Сиротинушка ты, сиротинушка! Хорошим человеком была Аннушка, душевным…
— Прими наши искренние соболезнования…
Закрутившись цветным хороводом, безликие слова смешались с запахом поздних астр и, замелькав, потащили Кирилла по нескончаемому кругу за собой. Будто гигантская центрифуга, с силой прижимая его к борту, они дробили воспалённое сознание на сотни мелких частичек и, захлестнув мозг горячечной, обжигающей волной, застилали действительность кровавой мутной пеленой. Накаляясь, тонкая нить звуков, доведённая до грани тишины, постепенно переходила из комариного писка в нестерпимо оглушительный грохот, разрывающий барабанные перепонки и стирающий напрочь все другие звуки.
— Кирюшенька…
— Кирилл Савельевич…
— Уходите… — Закрыв ладонями лицо, Кирилл с силой надавил пальцами на глаза, и под закрытыми веками золотистым электрическим каскадом мигом разбежались тысячи блестящих искр. — Вы! Все! Уходите!!! Уходите все! Мне никто не нужен.
Накинув на плечи широкий шерстяной платок, Люба приоткрыла дверь кряжинской избы и, незаметно выскользнув на улицу, повернула за угол. На деревне было тихо, только за дальними тополями, у автобусной остановки, перекрывая бряканье расстроенной дешёвенькой гитары, слышались чьи-то голоса, да откуда-то из-за реки доносился рваный лай собак. Закатившись в бочку с водой, малиновый блин остывающего солнца разорвался на несколько продолговатых неровных полос и, оседая на дно тонкими слоями, стал медленно растворяться в сумерках сентября. После спёртого воздуха дома, насквозь пропитавшегося ядрёным духом солёных огурцов и забористого самогона, чистая стынь улицы показалась Любе особенно холодной. Кутаясь в платок, она зябко передёрнула плечами и, оглянувшись по сторонам, с трудом отворила скрипучую дверь сарая.

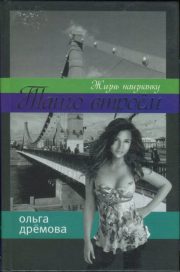
"Жизнь наизнанку" отзывы
Отзывы читателей о книге "Жизнь наизнанку". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Жизнь наизнанку" друзьям в соцсетях.