Симон натянул поводья и спешился. Так же поступили и люди из его отряда, и, не надеясь, что их впустят, они расселись вдоль стены монастыря и приготовились ждать.
Симон передал уздечку Тюрстану и постучал в дубовую дверь монастыря. В двери имелось небольшое отверстие, в которое выглянула монахиня.
– Симон де Санли, граф Нортгемитонский и Хантингдонский, – представился он. – Меня ждут.
В замке заскрипел ключ, и дверь открылась ровно настолько, чтобы он мог войти, – обязанности ключниц монахини всегда исполняли с рвением домохозяек, охраняющих своих цыплят от лисиц. Она наклонила голову в приветствии и слегка присела – это был намек на реверанс, но лишь после того, как она грозно взглянула на его людей и заперла за Симоном дверь.
– Я отведу вас к матери настоятельнице, – объявила монахиня. Губы ее были сжаты, словно стянуты шнурком. Симон понял: причину его появления здесь все знают и не одобряют. Встречавшиеся по пути монахини бросали на него косые взгляды и тут же опускали глаза. Они не станут обсуждать его за его спиной, потому что поклялись говорить только в случае необходимости, но он не мог не почувствовать глубины их осуждения.
Келья настоятельницы оказалась уютной комнатой, обогреваемой жаровнями. Стены украшали вышивки на религиозные темы. Комната так отличалась от той, в которой умерла Джудит, что Симон понял, как истязала себя его теща в последние годы.
Настоятельница сидела на стуле с высокой спинкой – руки сложены на коленях, пальцы перебирают великолепные агатовые четки. На груди – большой золотой крест. Она встала и сердечно приветствовала Симона. Потом велела ключнице позвать Сабину.
– Я признательна вам за то, что вы так быстро лично приехали, – сказала она, снова садясь и жестом приглашая его сесть на другой стул. Из изящного серебряного кувшина налила вина в один их двух кубков на столе и предложила ему.
– Вы думали, я пошлю кого-нибудь вместо себя? – спросил он, подняв брови.
– Не обижайтесь, милорд, но это приходило мне в голову. Ведь я не знала, будет ли у вас время… или желание.
– Для этой цели нашлось, – мрачно сказал он и сделал глоток вина. Как он и ожидал, оно оказалось превосходным. – Ведь я несу за это ответственность.
– Не каждый мужчина согласится с вами, милорд. У наших ворот мы видели множество несчастных женщин, которых бросили любовники и которые вынуждены были самостоятельно справляться с последствиями. И ведь случалось, что у отца имелось и кое-что еще, кроме плуга.
– Я не бросал Сабину, – пояснил Симон, невольно краснея. – Более того, я предложил ей кров, но она решила остаться у вас… До вашего письма я понятия не имел, что она беременна. – Он не прятал своих глаз от настоятельницы. – Она не моя любовница, которую я отправил в монастырь, когда она перестала меня устраивать. Этот ребенок родился из-за единственного случая слабости.
– Но сестра Сабина говорит, что вы хорошо знали друг друга.
– Верно… но не как любовники.
Монахиня скептически взглянула на него. Да и трудно было ее в этом винить.
– Мальчик крепкий и здоровый. Мы могли бы вырастить его здесь, а потом послать в мужской монастырь, когда подрастет, но неразумно держать младенца среди монахинь, если одна из них – его мать. Даже если он незаконнорожденный, он сын графа, и сестра Сабина хотела бы, чтобы вы вырастили его в своем собственном доме… Как я понимаю, Ваше присутствие здесь означает, что вы не возражаете?
Симон поставил пустую чашу на стол и отказался, когда она предложила налить еще.
– Разумеется, я не возражаю, – кивнул он.
В дверь постучали, и вошла Сабина, неся на руках спеленатого ребенка. Симон не мог отвести от нее глаз.
Она была привлекательной и в своем обычном платье и платке, но одеяние монахини превратило ее почти в Мадонну – овальное лицо, правильные черты, серо-фиалковые глаза, густые черные ресницы; руки изящные, красивой формы, без колец – она сняла обручальное кольцо Заера.
Симон встал. Сердце его бешено колотилось. Слова, которые всегда давались ему так легко, забылись. Он проглотил комок в горле.
– Почему ты не послала за мной раньше? – спросил он.
Она смело взглянула на него.
– Не было смысла. Чем ты мог помочь – смотреть, как растет мой живот? К тому же я не сразу поняла, что беременна. Никаких признаков не было. Месячные первые месяцы продолжались. Когда же я поняла, в чем дело, пришло время подумать. – Она взглянула на ребенка и нежно погладила его по щеке.
– Тебе не надо от него отказываться, – произнес Симон. – Ты же знаешь, я найду тебе жилье.
Сабина печально улыбнулась и покачала головой.
– В первые годы его жизни этого будет достаточно. Но наступит время, когда тебе придется взять его к себе, чтобы сделать из него рыцаря, и я останусь одна. Лучше расстаться сейчас, чем позже. Здесь у меня есть вера, да и мать настоятельница и сестры поддержат меня. – Она подняла ребенка ближе к глазам. – Я сама могу отказаться от мира, но хочу, чтобы он вцепился в него обеими руками. Он меня вылечил, – добавила она, – он – дар Господний. Я не думала, что у меня могут быть дети после того, как я потеряла троих. Дай ему возможность уйти отсюда и жить своей жизнью. – Она хорошо держалась, но при последних словах ее подбородок задрожал. – Возьми его. Я назвала его Симон, в твою честь. – Она нежно поцеловала младенца и положила его на руки отцу.
Симон взглянул на крошечное личико – глазки закрыты, из-под чепчика выбиваются темные волосы. Ему хотелось сказать, что, знай он, к чему приведет мгновение слабости в Дюраззо, он бы сдержался, но слова застряли в горле, а вскоре и вовсе забылись от ощущения теплой тяжести в руках. Сын Сабины действительно был даром – чудесным, но и беспокойным.
– У меня есть корзинка, в которой его можно везти. – В ее голосе слышалось отчаяние. – Тебе понадобится кормилица…
– Их в замке хватает, – сказал Симон. – Кое у кого из солдат есть жены, да и у графа Честерского есть в доме женщина с грудным ребенком.
– Сестра Сабина проводит вас до ворот, – объявила настоятельница, давая им возможность поговорить наедине.
Симону удалось вежливо попрощаться, хотя он все еще не мог осознать, что у него новорожденный сын на руках, а рядом идет Сабина с корзинкой.
– Он спокойный ребенок, – поясняла она. – Он не будет беспокоить тебя в дороге. – На первый взгляд она была спокойна, но ее состояние выдавали бледное лицо и плотно сжатые губы. – Как поступит твоя жена? – спросила она.
Симон поморщился. Дул сильный ветер, и он тщательно прикрывал ребенка полой плаща.
– Надеюсь, ей достанет доброты, чтобы понять.
– А если нет?
– Обещаю, что бы ни было между нами, ребенок не пострадает. Грех ведь наш с тобой, не его.
Она кивнула, как будто его слова облегчили ей душу.
– Так тяжело его отпускать… – прошептала она. – Если я сейчас держусь, то только потому, что разрешила себе горевать после твоего отъезда.
– Сабина…
– Молчи. Бери его и уходи. Все будет хорошо… Так лучше…
У дверей им пришлось подождать, пока привратница не откроет дверь. Сабина наклонилась и в последний раз поцеловала сына в лоб.
– Счастья тебе, малыш, – прошептала она.
Симон не удостоился объятия, только долгого взгляда, в котором выразилось все. Потом она повернулась и пошла к монастырю. Привратница выпустила Симона и передала ему корзинку.
– Ты заботься о малыше, – сурово велела она. – Господь все видит. – Тяжелая дубовая дверь захлопнулась за ним, и он услышал, как скрипнул засов.
Солдаты из его сопровождения поднялись и встали по стойке смирно, подозрительно косясь на него.
– Это ребенок, – с раздражением пояснил Симон. – Никогда раньше не видели? Привяжите эту корзинку на вьючную лошадь и накройте как следует, чтобы не намокла. – Он передал ребенка Тюрстану, вскочил на лошадь и снова забрал у него сына, спрятав его под плащом.
Никто не задал ни одного вопроса, но все переглядывались, стараясь не смотреть на Симона.
Несмотря на скверную погоду, Сабина ушла в самый отдаленный уголок аббатства, где она могла обнять свою горечь вместо теплого тельца сына. Она медленно раскачивалась и стонала. Горе было слишком велико, она даже не могла плакать. Там ее и нашла мать настоятельница и увела в келью.
– Ребенок? – Хью Честерский подозрительно покраснел. Его глаза смеялись. Внезапно на него напал приступ кашля. Он быстро потянулся к кувшину с вином, каковой всегда находился под рукой, сделал несколько торопливых глотков прямо из горлышка. – Даже я не спал с монахиней, а ведь считается, что у меня нет ни одного морального устоя! – произнес он, когда прокашлялся.
– Она тогда не была монахиней, – уточнил Симон.
Держа кувшин в руке, Честер наклонился над корзинкой – младенец смотрел на него голубыми, как у всех новорожденных, глазами.
– Ты уверен, что он твой? Не боишься, что она подсунула тебе кукушонка?
– Нет, он мой. – Симон старался сдерживать раздражение. Он выхватил кувшин у Честера и основательно приложился. – Мне нужно найти ему кормилицу.
– Есть Алаиз, – предложил Честер. – Она кормит сына, но у нее достаточно молока, чтобы затопить галеру. Она с удовольствием возьмется его кормить. По крайней мере, она угомонится. Кормящие женщины животов не отращивают.
– Спасибо.
Приятель раздражал Симона, но одновременно Симон был ему благодарен за помощь. Честер был неисправимым бабником. Алаиз была одной из его нескольких любовниц, но он всегда к ней возвращался, и вместе они родили троих сыновей, последнему из которых было около года.
– Что скажет твоя жена? – Честер продолжал смеяться, даже его плечи ходили ходуном.
Симону об этом даже думать не хотелось.
– Я надеюсь, что она проявит доброту. Ребенок ведь не виноват.
– Ну да! – фыркнул Честер. – Она его возьмет, а тебя вышвырнет.
Младенец открыл рот и несмело пискнул. Честер щелкнул пальцами, подзывая слугу.
– Отнеси этого ребенка к госпоже Алаиз и скажи, что господин Хью просил ее отнестись к нему как к одному из своих собственных.
– Слушаюсь, милорд. – Юноша поднял корзинку так, будто там был клубок извивающихся змей, а не один хныкающий ребенок, и осторожно понес ее через зал в личные покои графа.
– Приятно узнать, что ты можешь грешить, как и все мы! – Хью хлопнул Симона по плечу. – Ты не волнуйся. Алаиз – хорошая мать, она все сделает. – Он решительно сменил тему. – Я рад, что ты здесь. Я послал отряд за фуражом, и они до сих пор не вернулись…
– Кто во главе?
– Угадай? – сказал Честер уже без всякого смеха. – Жерар де Сериньи.
Симон выругался. Возможно, при людях де Беллем и отчитал Жерара. Но Симон подозревал, что один на один он сказал ему совсем другое. Де Сериньи ведь был человеком де Беллема и занимал удобное положение, чтобы докладывать хозяину все, что делают Симон и Хью Лупус. Конечно, он пользовался большой свободой.
– Хочешь, я этим займусь?
Честер развел руками.
– У тебя выучка не только командира, но и разведчика. Если Сериньи захватили французы – невелика потеря… Де Беллем выкупит этого поганца, но с ним много людей, и я хотел бы знать, что случилось с ними. Если они ограбили деревню и напились, я собственноручно зажарю их на костре.
Симон мрачно кивнул.
– Пойду оденусь и возьму оружие. – Он обрадовался, что есть чем заняться. Это означало, что пока можно не думать о сложных домашних делах.
Перед отъездом он зашел на женскую половину. Его сын сосал внушительную грудь Алаиз, закрыв глаза от удовольствия.
– Наверное, матери нелегко было с таким расставаться, – заметила Алаиз, крепко прижимая к себе младенца. – Она в самом деле монахиня?
Симон понял, что теперь эта басня будет преследовать его всю жизнь, где-то улучшая его репутацию, где-то нанося вред.
– Тогда еще не была, – пытался пояснить он. – И монахиней она стала не во искупление этого греха. И в самом деле: ей было очень трудно с ним расставаться.
Он вышел и направился во двор, где Тюрстан уже держал под уздцы его лошадь. Сабина сделала то, что, по ее мнению, было лучше для ребенка. Теперь он должен сделать так, чтобы она оказалась права. Он надеялся, что ему это по силам.
Глава 40
Нортгемптон, март 1098 года
На солнечных часах сидела малиновка. Ее горлышко на фоне коричневых крылышек выделялось цветом раскаленного янтаря. Все в саду говорило о весеннем пробуждении. На яблоне уже показались зеленые почки.
Вокруг ствола бурно разрослись подснежники, которые Симон привез из Византии. Разглядывая коричневые луковицы, Матильда и подумать не могла, как пышно они зацветут, когда земля еще не окончательно простится с зимой. Они уже почти отцвели, осталось всего несколько цветков на более поздних всходах. Она пожалела, что Симона не было, когда они цвели.

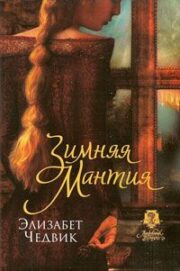
"Зимняя мантия" отзывы
Отзывы читателей о книге "Зимняя мантия". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Зимняя мантия" друзьям в соцсетях.