— Я просто… беспокоился.
— С вашей стороны это так чудесно. — Георгина была почти готова расплакаться, настолько тронула ее эта забота. — Спасибо вам. А… а как вы узнали, где я?
— Я спросил Няню. — Он явно гордился проявленной находчивостью. — Я подумал, что даже если твой отец ничего не знает, то уж она-то должна знать.
Комната поплыла перед глазами Георгины. Трудно было представить себе, как Мартин с его отчаянной, болезненной застенчивостью отыскал возможность поговорить с Няней, сумел выспросить у нее, где ему найти Георгину; в это трудно, почти невозможно было поверить. Георгине непонятно почему вспомнилась вдруг леди Макбет и ее обращенные к мужу слова: «И мужество свое все собери, до капли до последней, чтоб нанести удар».[46] Именно так, должно быть, пришлось поступить Мартину: собрать все свое мужество, до последней капли; по-видимому, подумала Георгина, он действительно любит ее, любит искренне и очень сильно.
— Послушай, — говорил ей тем временем Мартин, — если тебе будет что-то нужно, я хочу сказать: деньги или что-нибудь еще, — то обязательно дай мне знать, хорошо? Обещай мне, что дашь знать. Я постараюсь сделать так, чтобы ты не испытывала ненужных затруднений.
— Ой, Мартин, даже не знаю, что и ответить. Но обещаю, что при необходимости я так и сделаю. Я хочу сказать: обращусь к вам.
— Вот и хорошо. — После некоторой паузы он добавил: — Ну что ж, мне надо идти. А кстати, когда… когда должен родиться ребенок?
— Где-то в конце февраля, — ответила она, — или около того.
— Ты мне тогда сообщишь, хорошо?
— Разумеется. Но может быть, мы увидимся еще и до этого. Я, во всяком случае, надеюсь.
— Я тоже надеюсь. Ты на Рождество домой приедешь?
— Я… не знаю, — неуверенно проговорила она.
Спустя два дня Георгина получила письмо; конверт был надписан почерком Няни, однако само письмо было от Александра:
Дорогая Георгина, надеюсь, у тебя все в порядке. Мне было бы очень неприятно, если бы ты на Рождество оказалась в Лондоне одна, поэтому хочу, чтобы ты знала: мы будем рады видеть тебя на праздники в Хартесте.
Твой любящий отец
Георгина перечитала это письмо несколько раз; с одной стороны, она была рада, что отец протягивал ей оливковую ветвь, пусть даже и такую тоненькую; с другой — ее поразил холодный тон письма (даже несмотря на употребление обязательного в таких случаях слова «любящий»). Отец явно все еще продолжал сильно сердиться, не в состоянии был заставить себя извиниться за свое поведение или даже просто написать, что он по ней скучает. Она не могла удержаться от того, чтобы не сравнивать его письмо с мягкой, но внутренне неколебимой добротой Мартина. Георгина отложила письмо в сторону, не зная, как ей на него реагировать, и чувствуя только, что оно основательно разбередило ей душу.
Рождество Георгина встречала не дома, не с Томми и Энджи и даже не с миссис Викс и Клиффордом, от которых тоже получила приглашение. Встречала она его в больнице. За день до Рождества у нее вдруг возникла какая-то тупая боль в нижней части спины, перешедшая в довольно сильные судороги, и Лидия Пежо быстренько отправила ее в госпиталь королевы Шарлотты.
— Возможно, больница и не нужна, но излишняя осторожность не помешает. Такие боли обычно вызываются головкой плода, но для этого еще слишком рано. Не смотри на меня так, Георгина, я уверена, что у тебя все будет в порядке. Обычно достаточно недельку полежать в постели, и подобные вещи проходят.
Испуганная и подавленная, она лежала в предродовом отделении; на соседней кровати негромко постанывала крупная негритянка; кроме них двоих, в отделении никого не было: состояние остальных пациенток не внушало врачам опасений, поэтому всем им было позволено разойтись на Рождество по домам.
Шарлотта, примчавшаяся к ней сразу же, как только услышала, что ее положили в больницу, сидела по одну сторону кровати Георгины, Лидия Пежо — по другую.
— Послушай, — говорила Лидия, — я уверена, что волноваться совершенно не из-за чего. Спазмы прекратились, Георгина, ведь так? А сердечко у плода бьется очень сильно. И ребенок шевелится. Посмотри сама. — Они все посмотрели и расхохотались: под больничной простыней огромный живот Георгины ходил вверх и вниз. — Я понимаю, очень неприятно оказаться здесь на Рождество, но это гораздо лучше, нежели рисковать тем, что потеряешь ребенка. Так что смотри на дело с этой точки зрения.
Через день после Дня подарков, едва только Георгине разрешили на час подняться с постели и походить, как двери палаты распахнулись и в них возникла высокая сутуловатая фигура в высоких сапогах и широкополой шляпе. Посетитель подошел к ее кровати, протянул довольно помятый букет цветов и улыбнулся.
— Мартин! — Георгина была настолько поражена, что у нее в самом прямом смысле слова отвисла челюсть. — Как я рада вас видеть! Господи, а что вы здесь делаете?
— Хочешь верь, хочешь нет, но пришел навестить тебя, — ответил он, довольно беспомощно оглядываясь по сторонам.
— Не понимаю… А почему вы не дома? Ведь сейчас же Рождество.
— Я как-то не большой любитель праздников, знаешь. Я от них быстро устаю. К тому же Катриона поехала в Борнмут проведать свою мать, у той что-то не ладится со здоровьем, вот я и подумал… подумал, что, пожалуй, съезжу-ка и навещу тебя.
— Ой, это самый чудесный рождественский подарок, какой я когда-либо получала! — воскликнула Георгина. Наверное, если бы в палате появился сам Санта-Клаус, она и то была бы меньше поражена, чем теперь. — Идите сюда, садитесь.
— Спасибо. — Он робко присел на край кровати. — Как ты себя чувствуешь? Шарлотта сказала мне, что тебя положили в больницу, и я забеспокоился.
Он и вправду выглядит озабоченным, подумала Георгина: морщины на его тонком худом лице пролегли глубже, чем обычно.
— У меня все хорошо, Мартин, честное слово. Просто какая-то глупая ложная тревога. Малыш успокоился, сегодня мне разрешили вставать. Через два или три дня буду дома.
— Тебе надо хорошенько следить за собой, — проговорил он. — А когда ты вернешься домой, там будет кому за тобой приглядеть? В Хартест ты приехать не можешь, нет?
— Ну, Шарлотта говорит, что Няня грозилась приехать и пожить со мной некоторое время, — принялась рассказывать Георгина, оставив без ответа последний его вопрос. — Энджи предложила мне переехать на время к ней, и миссис Викс, это ее бабушка, вы ее знаете, тоже говорила, что может поухаживать за мной пару дней, так что меня могут просто задушить в объятиях и убить заботой.
— Ну что ж, это хорошо, — сказал он. — А выглядишь ты неплохо. Тебе идет, — добавил он.
— Спасибо. — Георгина легонько похлопала себя по животу. — Так странно быть такой толстой.
— Э-э… а что ты собираешься делать, когда ребенок родится? — спросил Мартин. — Я хочу сказать, где ты будешь жить? И есть ли кто-нибудь, кто мог бы… ну, тогда о тебе позаботиться?
— Я сама о себе позабочусь, — решительно заявила Георгина. — Пойду работать. Жить буду в своей квартире, в Чизвике. Знаете, там очень славно. Это не чердак какой-нибудь, не думайте.
— Что ж, хорошо. Я просто так спросил. Я хочу сказать, тебе будет очень трудно.
— Не очень. Другие же как-то справляются.
— Да, но у других обычно бывают мужья, — возразил Мартин. Голос у него стал вдруг удивительно твердым. — Не знаю, Георгина, хорошо ли ты все это продумала.
Георгина ощутила вдруг острый приступ раздражения. Она была так рада его видеть, а теперь вот и он начинает рассуждать так же, как все остальные. И так же действовать ей на нервы. «Конечно, — подумала она, — в этом есть и что-то приятное. Почти отеческое». Примерно такого отношения к себе она ожидала бы от Александра. Георгина подавила раздражение и улыбнулась:
— Я понимаю. И спасибо вам, что беспокоитесь об этом. Но я уверена, что все будет в порядке. Энджи предложила взять меня стажером в свою фирму. Мне там понравится, я знаю.
— Но не можешь же ты бросить занятия архитектурой! — Казалось, Мартин был просто поражен. — У тебя это так хорошо получается; по крайней мере, твой отец говорит, что получается, да и ты сама ее так любишь.
— Да… получается. Но я могу прожить и без этого.
Повисло молчание. Мартин сидел, уставившись себе под ноги. Двери палаты снова открылись, и вошла Энджи.
— Мартин, здравствуйте! — проговорила она, улыбаясь. — Очень рада снова вас видеть. Господи, а что вы здесь делаете?
— Пришел навестить меня, — ответила Георгина. — Прямо как крестный отец из какой-нибудь сказки. Он обо мне беспокоился.
— Как мило. — Энджи бросила на Мартина оживленный взгляд. Стоило появиться возле нее новому мужчине, как Энджи сразу же словно переключалась на другую скорость. — Вот что значит настоящий друг! Отважиться появиться в родильном отделении, когда ни одна из лежащих тут мамаш вам не родственница, — это я и называю настоящим мужеством.
Казалось, Мартин почувствовал себя еще более неловко, чем раньше: он покраснел, смущенно улыбнулся Энджи и опять уставился на свои громадные ноги.
— Как встретили Рождество, весело? — спросила его Энджи. — Как ваша жена?
— Да, хорошо встретили. И у Катрионы все хорошо, спасибо. Мы были в Хартесте на День подарков. Александр был в отличной форме.
— Да? — вскользь переспросила Энджи. — Очень приятно. — Выражение ее лица ясно давало понять, что она слышать ничего не хочет ни об Александре, ни о его хорошей форме. — А Георгина отлично выглядит, правда? И ей идет, вы не находите? Когда я была беременна своими двойняшками, я была похожа на клоуна из цирка. Просто отвратительно.
— Ну, никогда не поверю, чтобы вы могли так выглядеть, — вежливо улыбнулся Мартин. — Что ж, пожалуй, мне уже пора уходить. Рад, что у тебя все в порядке, Георгина. Не забывай того, о чем я говорил, хорошо? Насчет… насчет помощи и всего остального, ладно?
— Нет, — ответила Георгина, — не забуду. И спасибо вам большое за то, что пришли, и вообще за все. До свидания, Мартин.
Она приподнялась и поцеловала его; он неуклюже чмокнул ее в ответ и заспешил к дверям, на ходу надевая свою потрепанную шляпу.
— Он такой милый, — рассеянно проговорила Энджи, глядя ему вслед.
— Необыкновенно милый, правда? До сих пор не верю, что он смог сюда прийти, — отозвалась Георгина. — Ему это должно было стоить почти нечеловеческих усилий. И что его заставило прийти, как вы думаете?
— По-видимому, он о тебе действительно беспокоится.
— Да, но… Энджи, он никогда в жизни не выезжает за пределы Уилтшира. Никогда. По-моему, последний раз это было в день его свадьбы.
— Ну… может быть, он в тебя влюблен.
— Это уже просто глупость, — возразила Георгина. — Чтобы Мартин да был в кого-нибудь влюблен!
— Извини, пожалуйста! — запротестовала Энджи. — На дне рождения у твоего отца я очень неплохо провела с ним время. Очень неплохо. Он довольно много выпил, мы вышли с ним на улицу и…
— И что? — со смехом спросила Георгина.
— И ничего. Просто он очень много говорил. Но мне он показался очень сексуальным. Знаешь, в таком романтически-трагическом ключе. Наверное, это в нем русская кровь сказывается.
— Какая русская кровь? — удивленно уставилась на нее Георгина. — Я и не знала, что в Мартине есть русская кровь.
— Не знала? Есть, есть. Его бабушка была русская, — ответила Энджи. — У него даже второе имя русское. Как же… погоди, дай вспомню. Юрий? Нет, как-то не так. Юрген? Нет… Вот, вспомнила: Егор. Да, Егор.
— Ну, — проговорила Георгина, — вам, Энджи, удалось за один раз вытянуть из него больше, чем всем нам вместе за все эти годы. Егор! Ну и имечко!
— По-русски это то же самое, что Джордж, Георгий, — продолжала Энджи, беря лучшую кисть винограда с тарелки, стоявшей возле кровати Георгины. — И, насколько я помню, он был влюблен в твою маму. Он мне не раз говорил, какая она красавица.
— Мартин?! Глупости, он на сто процентов под каблуком у Катрионы. Без нее никуда не выходит и ничего не делает.
— Ну, это не значит, что он не может быть в кого-нибудь влюблен, — возразила Энджи. — Секс — это мощная штука.
— Энджи, вы просто одержимы своим сексом, — засмеялась Георгина. — Расскажите мне лучше, что Клиффорд подарил на Рождество вашей бабушке.
По мере того как приближалось время родов, моральное состояние Георгины ухудшалось. Оптимизма у нее сильно поубавилось, как и прежних бодрости и смелости; чувство одиночества потихоньку овладело ею, и она, удивляясь сама себе, стала тосковать по своей матери, умершей, кажется, уже целую вечность тому назад, когда Георгина была еще маленьким ребенком. Теперь она постоянно думала о матери; ей было интересно, испытывала ли в свое время Вирджиния то же самое, что сейчас чувствовала и переживала она сама: физическую усталость, ощущение постоянного неудобства и беспокойства, страх перед тем величайшим испытанием, каким станут сами роды, тревогу и душевный трепет перед перспективой пожизненной ответственности за другое живое существо.

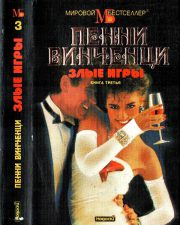
"Злые игры. Книга 3" отзывы
Отзывы читателей о книге "Злые игры. Книга 3". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Злые игры. Книга 3" друзьям в соцсетях.