Георгина так и сделала; опыт показался ей ужасающим. Комната поплыла вокруг, потом стала отступать и падать, словно обрушиваясь на нее, но боль как была, так и осталась, невыносимая, раскалывающая боль.
…В палату вошел молодой врач и присоединился к акушерке.
— Ну как, все в порядке? — Он улыбнулся знающей и понимающей улыбкой, способной только вызвать раздражение.
— Ни в каком не в порядке, сплошной кошмар, — буркнула Георгина. Боль на время отпустила ее, и теперь она лежала на кровати, расслабившись. — Где Лидия? Почему ее нет, я хочу, чтобы она была тут.
— Она в дороге, — ответил врач. — Но мне кажется, что ваш ребенок появится раньше ее. Так, дайте-ка мне взглянуть.
«О господи, опять все сначала», — подумала Георгина, внутренне готовясь к очередному сочетанию болей естественных и болей от осмотра. Она оттолкнула от себя газовую маску.
— Не надо. Терпеть ее не могу.
Она завопила, когда врач что-то сделал и эта боль наложилась на другую; потом ей удалось восстановить какое-то подобие самоконтроля.
«Думай, Георгина, сосредоточься, не давай всему этому взять над тобой верх».
— Хорошо, у вас уже произошло полное расширение. При следующей схватке тужьтесь. Тужьтесь изо всех сил, как только можете. Хорошо? — Врач улыбнулся.
Акушерка взяла ее за руку, вытерла ей пот на лбу.
— Вы просто молодец, — сказала она.
Схватка началась. Сначала Георгина боялась ее, вся сжалась в ее предчувствии; но потом ощутила, что это какая-то иная схватка, отличная от прежних, мощная, необоримая, властная. Она принялась тужиться, выталкивать изо всех сил, лихорадочно; боль нарастала, она становилась все сильней и невыносимей.
— Не могу, — простонала она, — не могу. Очень трудно.
— Можете. Отдохните пока немного. Подождите следующей схватки. Просто подождите.
Она ждала. Господи, ждать было хуже, нежели терпеть боль. «Отвлекись от всего этого, Георгина, отвлекись. Давай. Вернись назад к Мартину, к Энджи, вспоминай, что там было, в чем там было дело?»
— Тужьтесь! Тужьтесь, ну же!
Она принялась тужиться. Теперь пошло легче. Она вдруг почувствовала себя очень сильной. В перерывах между схватками она пребывала в каком-то странном состоянии: ей казалось, что во всем мире есть только она одна, она сама и ее ребенок, борющийся сейчас за то, чтобы вырваться из нее; нет, двое — ребенок и боль; и она уже чувствовала, была совершенно уверена, что все закончится благополучно. Вот снова приступ боли, и еще одна передышка. Вернемся к своим мыслям. Мартин. Энджи. Голос Энджи: «По-моему, он был влюблен в твою маму».
Мартин. Дочери. Отцы. Снова боль: теперь она чувствовала, что головка малыша вошла в проход и давит, раздвигает его. Молодой врач был явно доволен и улыбался ей. Почему-то он вдруг ей понравился, и она тоже улыбнулась ему в ответ.
— Головка уже показалась, — проговорил врач. — При следующей схватке весь будет здесь.
Отдохнем. Будет здесь. Будет здесь. Сын. А может быть, дочка. Мартин. Любил твою маму. Нет, что-то еще. О господи, опять боль, так что же это было, что это было, толкай, Георгина, толкай, да, вспомнила, вот оно, точно вспомнила, имя, имя Мартина, его второе имя, русское имя, как же оно? Егор. Да, верно, Егор, русский эквивалент Джорджа. Мартин, отцы, дочери, любовь, Джордж, тужься-ка еще разочек, тужься, Джордж, да, да, точно, именно так, Джордж, Джордж, Джорджи.
И, с торжествующим криком вытолкнув в мир своего сына, улыбаясь и плача, Георгина наконец почувствовала и поняла, поняла окончательно и без малейших сомнений, кто же все-таки был ее настоящим отцом.
Глава 50
Вирджиния, 1964
Единственное, чего ей хотелось, так это показать ему ребенка. Он звонил ей, рвался приехать прямо в тот день, когда родилась девочка, но она сказала, чтобы он не приезжал. Это было бы слишком рискованно, очень уж странно выглядело бы его появление. Придется подождать. И ему, и ей: им обоим придется подождать.
Прошло четыре дня, прежде чем он наконец приехал. Четыре бесконечных счастливых дня нетерпеливого ожидания. Он стеснялся, мучительно стеснялся, почти не поднимал глаз на нее; в руках у него была огромная охапка ярко-розовых пионов.
— Жаль, что не розы, — проговорил он. — Но у Катрионы они еще не распустились. Да она бы могла и заметить, если бы я их срезал. Как ты себя чувствуешь?
— Хорошо, — ответила она. — Посмотри. Правда, она красавица? Георгина. И имя такое хорошее, красивое и длинное.
Он смущенно улыбнулся, с благоговением и безграничной нежностью глядя на спящую крошку.
— Изумительная красавица. Просто прекрасная. Я так счастлив. — Потом, после небольшой паузы, с трудом выговорил: — Как… как все прошло?! — И покраснел.
— Чудесно. Если бы мне сказали, что все может пройти так превосходно, я бы даже не поверила. Так быстро, так легко. Мне даже понравилось. А когда она родилась, я вдруг сказала: «Получилось, Джорджи, получилось!» Знаешь, я была так горда собой. Без всяких лекарств, без всего.
— Ну вот и хорошо, — по-прежнему смущенно произнес он и добавил: — А ты смелая.
— Ничего подобного. Честное слово, нет.
— Жаль, что не мальчик.
— А мне нет. Можем повторить, попробовать еще раз. Посмотри, ну чем не чудо?! И уже такая длинненькая! Она у нас будет очень высокая.
Вирджинию немного беспокоили и рост Георгины, и ее худоба, и то, что уже с пяти лет она начала проявлять склонность сутулиться. Вирджинии казалось, что кто-нибудь когда-нибудь может обратить на это внимание и что-нибудь высказать по этому поводу. Хотя Малыш был очень высок ростом. Конечно, он не был худым, но высоким он был. А Фред III был худощав. Правда, при этом очень прям и подтянут. Но ничего, этого достаточно. С генетической точки зрения этого вполне достаточно.
Она была счастлива, потрясающе счастлива. Казалось, все вдруг пошло именно так, как надо. И хорошо, что он был рядом, в пределах досягаемости, доступен для общения. Она имела возможность видеться — и действительно виделась — с ним почти ежедневно. Господи, как же она любила его! Ей самой с трудом верилось, что она может так любить. Ее самая первая мысль утром, когда она просыпалась, и самая последняя вечером, перед тем как заснуть, были всегда о нем. Иногда, когда он сидел в оружейной комнате вместе с Александром, а она заходила, чтобы подать им кофе (время от времени она задавалась вопросом, обращал ли Александр когда-нибудь внимание на то, что она сама приносила кофе в оружейную только тогда, когда он бывал там вместе с Мартином, а в остальных случаях предоставляла миссис Тэллоу помнить и заботиться об этом), она смотрела на него и чуть не падала в обморок, так она его любила, любила в нем все: и это костлявое, худое лицо — она ему говорила, кого он ей напоминает, кто же это был… да, нежного ястреба, — и длинную шею, и вечно взлохмаченные прямые каштановые волосы, и его сутулую спину, и необыкновенно длинные ноги, всегда облаченные в одни и те же поношенные коричневые плисовые брюки, и руки, большие, тонкие, изумительные руки, умные и умелые руки, которые бесконечное число раз заставляли ее плакать и кричать от удовольствия. Господи, как же она его любила. Их любовь оказалась счастливой, удивительно, необыкновенно счастливой, их роман был совершенно свободен от каких-либо трудностей, сложностей, от всего, что могло бы служить источником и причиной душевной боли.
Каждый день она вспоминала какой-нибудь эпизод из того времени, когда все у них еще только начиналось: как он в самый первый раз сказал ей, что, на его взгляд, она прекрасна (она тогда была просто поражена этими его словами: она как раз ходила беременная Шарлоттой, и ее поразило и то, что в подобном состоянии он мог счесть ее красивой, и еще больше то, что он вообще решился ей об этом сказать); как он впервые признался ей в любви; его улыбку, когда она предложила ему заняться с ней любовью в ту темную, очень темную ночь в лодочном павильоне на озере, улыбку одновременно и счастливую, и стыдливую, и уверенную; благоговейное выражение в его глазах, когда она сказала ему, что беременна и что это, без сомнения, его ребенок; она перебирала такие воспоминания, словно сверкающие, блестящие драгоценные камни на нитке. Они, эти воспоминания, помогли ей пережить самые тяжкие времена, те периоды, когда ей казалось, что она больше не выдержит ни одного дня этой ужасной жизни наедине с Александром и со своей тайной; помогли пережить ту полосу, когда она поссорилась, крупно поссорилась с Мартином из-за того, что тот не мог и не хотел понимать, почему она продолжает этот омерзительный фарс с Александром, почему не разрушит их брак, как может выносить все это. Воспоминания помогли ей пережить и то жуткое время, когда умер второй их ребенок, бедный маленький Александр, родившийся преждевременно, больным и обреченным, по ее собственной вине, из-за ее сознательной безответственности, из-за ее пьянства, ужаснейшего, кошмарного безостановочного пьянства, без которого она уже больше не хотела, а возможно, и не могла жить, даже несмотря на то, что у нее был Мартин, была Георгина, должен был появиться еще один ребенок. Именно тогда, один-единственный раз, его не оказалось с ней рядом: она была в Лондоне, далеко от Хартеста, далеко от него; но она с нетерпением ждала телефонного звонка, письма, записки, возможно, даже того, что он приедет сам. Потом она сказала ему, что не так уж далеко надо было и ехать; а он ответил (когда наконец позвонил ей и разговаривал неуверенным, извиняющимся, грустным голосом), что он опасался, боялся приехать, и не столько даже из-за Александра, сколько из-за нее самой, а также из-за того, что и он сам, и Александр с ней делают. Но воспоминания, эти счастливые воспоминания, и любовь к нему, и его ответная любовь к ней помогли Вирджинии пережить все. Как-то помогли.
История с Томми оскорбила его, ужасно оскорбила. Она часто и сама удивлялась, как могла поступить с ним подобным образом, как могла вообще сделать такое: уехать и броситься в связь, переспать с другим мужчиной, с человеком, которого она практически даже не знала, забеременеть от него — ну, правда, она не ожидала, что забеременеет; если судить по ее расчетам, это было совершенно невозможно, она даже ни на секунду и не задумывалась об этой опасности. Конечно, у нее еще не было достаточного опыта пользования противозачаточными таблетками. Но ей так отчаянно нужно было тогда хоть немного радости, хоть немного смеха и развлечений. Как бы ни любила она Мартина, но всего этого в их отношениях сильно недоставало. И Вирджиния надеялась, что он никогда не узнает, как потом время от времени она ездила к Томми — словно наркоман к своему наркотику; шла на невероятные ухищрения, чтобы скрыть эти поездки, обмануть Мартина; и сама же с изумлением думала иногда, что ведет себя в этих ситуациях скорее как жена, наставляющая рога мужу, чем как любовница, обманывающая своего любовника. Она полагала, что Мартин так ничего и не узнал и считал случай с Томми единственным, просто приступом какого-то умопомрачения, которое охватило ее как раз тогда, когда она приходила в себя после смерти ребенка.
Все эти годы они оставались близки и продолжали любить друг друга; временами у них бывало больше возможностей видеться, встречаться друг с другом, временами меньше. Катриона, милая, сердечная, слепая Катриона так никогда ничего не заподозрила; и Александр тоже. Она себя чувствовала — оба они себя чувствовали — ужасно, им казалось, что они обманывают, предают Александра; а ведь Мартин у него работал и вроде бы считался его другом, да и был им на самом деле; единственной альтернативой, однако, было бы сказать Александру правду, а в этом они не видели никакого смысла. Третий вариант — расстаться друг с другом — просто никогда не приходил им в голову.
Какая ирония судьбы, часто думала Вирджиния, что именно Георгине суждено было стать любимой дочкой Александра, да и ее любимицей тоже. Девочка выросла, даже не подозревая о совершенно необыкновенной любви к ней троих родителей сразу; на дни ее рождения и на Рождество Вирджиния всегда устраивала так, чтобы Мартин приходил в их дом и мог провести какое-то время вместе с Георгиной. И ее радовало, что, по мере того как дочь становится старше, она проникается все большей симпатией и любовью к Мартину; ей было и приятно, и немного страшно видеть их вместе — так они были похожи друг на друга: оба высокие, худощавые, с одинаковым выражением какой-то постоянной тревоги, озабоченности на лицах, с одинаково опущенными плечами, одинаково сутулящиеся. Два ее нежных ястреба; им удавалось скрашивать превратности ее нелегкой жизни.
Сокращенное имя Джорджи придумала она сама; Мартин как-то рассказал ей о своих российских предках и о том странном втором имени, что досталось ему от них.

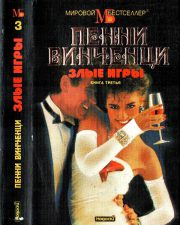
"Злые игры. Книга 3" отзывы
Отзывы читателей о книге "Злые игры. Книга 3". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Злые игры. Книга 3" друзьям в соцсетях.