— Горжусь тобой, очень горжусь, — только и сказал он.
Они гуляли тогда почти целый час и непрерывно говорили, говорили. Общаться им было очень легко. Мартин не задавал ей идиотских вопросов типа того, как давно она уже все знает или как она догадалась; а Георгина не спрашивала его о том, как это все когда-то произошло. Мартин просто рассказывал ей о Вирджинии, говорил о том, как сильно он ее любил, каким она была незаурядным человеком, добрым другом; сказал, что, разумеется, Александр и Катриона никогда не знали и даже не подозревали о его с Вирджинией близости, и лучше всего будет, если они так никогда ничего и не узнают. Он говорил о том, какую радость ему доставляло наблюдать, как Георгина росла, и что она всегда была его любимицей.
А она говорила ему о том, как ей приятно, что он здесь, рядом с ней, особенно теперь, когда у нее появился Джордж; как она рада, что вернулась домой, в Хартест. Она надеется, сказала Георгина, что отныне они будут чаще и больше видеться друг с другом: очень ведь глупо, добавила она, жить с кем-то рядом и не встречаться по целым неделям подряд. Она спросила Мартина, не станет ли Катриона возражать, если она будет иногда приходить к ним с ребенком, и он ответил, что, напротив, Катриона будет только рада этому. Она очень переживала из-за того, что у нее никогда не было детей, и Мартин относился к ней весьма сочувственно; правда, сама-то она всю жизнь считала, что вина за это лежит на Мартине. Никаких проверок и анализов, признался он со смущенной улыбкой, они никогда не делали — сама эта процедура представлялась им ужасной; просто решили смириться с положением дел и так и жили.
— Я тоже очень рад, что ты вернулась в Хартест, — сказал Мартин Георгине, — нам это всем очень приятно. Я так боялся, что уже никогда не увижу тебя.
На протяжении нескольких последующих недель они сблизились еще больше. Часто гуляли вместе; иногда сидели и беседовали друг с другом в доме — когда, например, Мартину приходилось дожидаться, пока Александр его примет, или же когда сам Александр бывал в отъезде; несколько раз она заходила к Мартину и Катрионе домой, принося с собой Джорджа. А раз или два даже набиралась мужества и встречалась с Мартином в Мальборо, они шли в паб и там обедали. «Для меня огромная честь и удовольствие, что я могу хоть чем-нибудь тебя побаловать», — говорил ей в таких случаях Мартин. Он безоговорочно принял и считал совершенно правильными и ее решение сохранить ребенка, и нежелание говорить об этом Кендрику. «Если уж отношения не сложились, то гораздо лучше оставаться абсолютно самостоятельной».
Поначалу ее несколько озадачило, как подобная философия уживалась с его собственным браком; но потом Георгина пришла к заключению, что, вопреки всему, отношения между Мартином и Катрионой действительно сложились и их брак был по-своему вполне счастливым.
Георгина обнаружила, что Мартину нравились, его интересовали во многом те же самые вещи, что и ее, — музыка, живопись, красивые дома.
— Не обращай внимания на то, что наш дом внешне столь безобразен. Когда мы сюда только переехали, мне поначалу было очень трудно примириться с этим; но Катрионе дом понравился, и я со временем тоже привык к его внешнему виду.
Мартин рассказывал ей о Вирджинии; рассказывал то, о чем Георгина раньше не знала, и слушать его было ей приятно: о том, с какой страстью она их всех любила, как всегда сохраняла лояльность Александру («Она никогда не допускала сама и не желала выслушивать от других ни одного, буквально ни одного критического слова в его адрес»), какой она была смелой и мужественной. Когда Георгина возразила, что Вирджиния постоянно отсутствовала, бросала их одних, Мартин встал на ее защиту: работа, заявил он, была для Вирджинии очень важна, у нее был огромный талант, и этот талант придавал ей силы, помогал постоянно бороться с алкоголизмом, с ощущением себя как неудачницы в жизни, помогал преодолевать чувства, возникавшие у нее из-за того, что ее отец был всегда недоволен ею.
Мартин рассказывал ей трогательные истории, иллюстрировавшие мамино обаяние и обходительность, ее способность делать небольшие, но исполненные чуткости и внимания жесты («Катриона однажды призналась ей, что очень любит шотландские танцы, и с тех пор каждый год в день ее рождения твоя мама устраивала небольшую вечеринку, и после ужина мы все танцевали, ты обычно бывала в это время в школе»), много говорил о ее красоте («Люди останавливались и смотрели на нее, Георгина, люди, которые ее даже не знали, такая она была красавица»).
Георгина никогда не спрашивала Мартина о том, когда и как у них все началось; она не рассказала ему о Чарльзе Сейнт-Маллине и Томми и ни разу ни в какой форме не говорила с ним о Шарлотте и Максе. Отчасти потому, что ей мешали сделать это ее застенчивость и щепетильность, отчасти же потому, что ни она, ни Мартин не видели необходимости нарушать те незримые, но очень прочные рамки, которые сами же установили в своих взаимоотношениях. Находясь в их пределах, Георгина чувствовала себя в безопасности, уверенной и счастливой; эти рамки позволяли ей узнавать все то, что ее интересовало, в то же время не нанося никакого ущерба Александру. Она сознавала, что с ее стороны несколько странно ограничиваться подобными рамками там, где большинство людей на ее месте были бы одержимы чувством любопытства; но она была благодарна судьбе за эту свою способность. За пределами этих рамок лежала опасность, и Георгина не испытывала никакого желания навлекать какими-либо своими действиями эту опасность на себя.
Но лучше всего, пожалуй, было то, что Александр совершенно не догадывался ни о том, что она нашла своего второго отца, разрешила для себя загадку своего появления на свет, ни о том, насколько счастливой сделало ее это открытие.
Глава 54
Макс, апрель 1987
Лучи солнца сквозь узкие окна потоками лились внутрь часовни. Фата Джеммы растянулась почти по всей длине прохода. Платье от Анушки Хемпель было из шелка кремового цвета; его украшала тысяча круглых жемчужин. В руках она держала белый молитвенник, за ней тянулась гирлянда из ландышей, взгляд Джеммы был скромно опущен вниз.
— Надо поднять настроение, дорогуша, а то ты смотришься как какая-нибудь трепаная монахиня. — Найдж Нелсон, нахмурившись, внимательно изучал только что сделанный «полароидом» контрольный снимок. — И туфли эти совершенно не подходят. Слишком высокие каблуки. Других нет?
Художественный редактор, молодая женщина, смертельно боявшаяся Найджа, принялась рыться в целой куче пластиковых пакетов.
— Может быть, вот эти? — предложила она. — Но тут каблуки еще выше.
— Не годится. И почему только вы, девочки, никогда ничему не учитесь? Джемма, дорогуша, может быть, у тебя у самой что-то есть?
— Нет, — высокомерным тоном ответила Джемма. — Макс, а в доме не найдется чего-нибудь подходящего, а?
— Не думаю. Разве что туфли Георгины, белые бархатные, но они тоже на высоких каблуках.
— А среди вещей твоей мамы? Ведь вся ее одежда до сих пор цела, верно? Я как-то видела.
Макс почувствовал вспышку ярости. Господи, до чего же она бесчувственна!
— Прости, Джемма, но я не собираюсь перерывать мамины вещи только ради того, чтобы найти реквизит для каких-то паршивых съемок.
— Черт с ними, будем снимать как есть, — устало проговорил Найдж. — Поздно уже, освещение уходит. Ну-ка, Джемма, давай, дорогуша, улыбнись как следует своему жениху.
Джемма с обожанием во взоре уставилась в глаза стоявшему рядом с ней манекену в одежде от братьев Мосс.
— Слишком наивно, — заявил Найдж. — Давай, дорогуша, постарайся как следует. Где этот гребаный гример? Опять пошел травку покурить, да? Ах, вот он. Можно сделать так, чтобы волосы были попышнее? И глаза накрашены слишком ярко. Чуть подтемни, хорошо? Только поторопись, бога ради. А то придется переходить на искусственное освещение, а этот поганый ассистент забыл кабель.
Макс начинал уже крепко жалеть, что предложил часовню Хартеста в качестве места съемок для «Брайдз мэгэзин».[49]
Всю обратную дорогу до Лондона Макс сидел за рулем надувшись и молчал. Джемма же, наоборот, была оживленна и предельно возбуждена.
— Очень хорошо все прошло, правда? Так приятно было там стоять и думать о нашей собственной свадьбе. Пожалуй, когда я буду выходить замуж, я тоже закажу себе платье от Анушки, а? Как ты думаешь?
— Не знаю, — процедил Макс.
— Найдж, конечно, свинья, но фотограф он изумительный. Я уверена, снимки будут просто чудесные. Как ты думаешь, твой папа не захотел бы заказать себе несколько штук на память?
— Думаю, что нет. Скорее всего, он бы отнесся к такому предложению крайне отрицательно.
— Почему?
— Так, не важно. Нет смысла пытаться объяснять, если ты сама не понимаешь.
— Я понимаю, что ты не в настроении, — ответила Джемма. — В чем дело?
— Дело в том, — проговорил Макс, — что мне не нравится, когда в церковь набиваются всякие ублюдки и извращенцы, и…
— Ой, ради бога, — возразила Джемма, — ты ведь сам разрешил. И никакие они не ублюдки и не извращенцы. А просто хорошие и веселые ребята. Чего я не могу сказать сегодня о тебе.
— Ну извини, пожалуйста. Я не понял, что мне сегодня отводилась роль быть только швейцаром.
— Я посплю. — Джемма свернулась калачиком в углу сиденья. — С тобой сейчас все равно бесполезно разговаривать. А ты поднажми. Прием через час. Если опоздаем, пропустим все самое интересное.
— Ладно, — буркнул Макс.
Макс работал в «Прэгерсе» уже больше трех недель, по зарплате он вернулся примерно к половине того, что зарабатывал моделью, плюс имел здесь очень хорошие премиальные и один процент акций банка; Фред обещал когда-нибудь со временем увеличить эту долю, впрочем высказав весьма туманно и само обещание, и сроки, когда оно может быть осуществлено. И тем не менее особенного удовлетворения Макс не испытывал: ему не хватало Джейка и всех остальных, с кем он успел подружиться в «Мортонсе»; не хватало ему и чего-то еще, чего-то такого, что было крайне трудно определить точно. Гейб Хоффман, приезжавший на очень короткое время в Лондон, попробовал объяснить Максу, что это могло быть, когда они как-то вечером сидели и немного разговорились с ним, дожидаясь, пока Шарлотта закончит работу.
— Каждому важно чувствовать, что стоишь на прочной основе. Конечно, старый Фред — тиран, каких поискать, но он знает, как надо управлять компанией. Как я понимаю, отец Джеммы тоже человек такого же типа. Я бы сказал, что лондонское отделение «Прэгерса» напоминает сейчас судно, которое дало течь. Но к вам должна скоро прибыть очень умелая команда. Надеюсь, что она сможет починить пробоину, пока еще не поздно. Не беспокойся.
Макс старался не беспокоиться. Умелая команда прибыла: в конце марта появился Чак Дрю с парой своих помощников, в апреле к ним присоединился Фредди.
— Дедушка послал меня наладить здесь хорошие и прочные отношения с клиентами, — важно сообщил он Максу. — Я прислан сюда только на год, но за это время меня тут смогут все узнать. По-моему, это отличная идея.
Макс кивнул.
— Да, и кстати, — проговорил Фредди, его голубые глаза смотрели на Макса холодно и с откровенной неприязнью, — надеюсь, ты понимаешь, что будешь заниматься только ведением коммерческих операций? Не может быть и речи о том, чтобы ты занял какую-либо действительно руководящую должность. И никаких контактов с клиентами, за исключением только самого рабочего уровня. Не сомневаюсь, что дедушка тебе все это объяснил.
— Нет, что-то я не припоминаю.
— Ну, в разговоре со мной он это специально подчеркивал, — заявил Фредди.
— Что ж, в таком случае постараюсь запомнить, — ответил Макс.
Атмосфера в лондонском отделении «Прэгерса» была теперь не просто хуже, чем прежде; она стала откровенно тяжелой. Номинально отделение продолжал пока возглавлять Питер Дональдсон, но Чак Дрю делал все, чтобы подорвать его моральный дух, лишить его авторитета и фактической власти; он не выполнял исходившие от Дональдсона распоряжения, выражал несогласие с его решениями, противоречил ему на совещаниях, портил отношения между Дональдсоном и его сотрудниками. Шарлотта, относившаяся к Дональдсону с симпатией, была всем этим расстроена и высказала Фредди свое мнение. Тот посмотрел на нее глазами, потемневшими от неприязни, и посоветовал не вмешиваться в то, что ее не касается.
— Но это меня касается. Дональдсон — мой босс.
— Вот и сосредоточься на том, чтобы получше на него работать, — заявил Фредди. Перспектива перевода Шарлотты в Нью-Йорк злила его почти столь же сильно, как и появление в отделении Макса.
— Он чувствует угрозу, — прокомментировал сложившееся положение Макс. — Он уже считал, что избавился от тебя раз и навсегда.

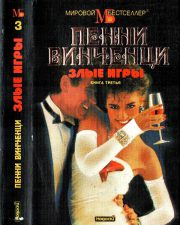
"Злые игры. Книга 3" отзывы
Отзывы читателей о книге "Злые игры. Книга 3". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Злые игры. Книга 3" друзьям в соцсетях.