Сердце сжимается от одного сознания, что мне предстоит описать все виденное там. Любые, самые фантастические слова бессильны воспроизвести сущую правду, неприкрашенную действительность, открывающуюся там человеческому взору.
Лишь одно-единственное сравнение приходит мне на ум.
Представьте себе огромный кратер вулканического происхождения, из тех, что можно увидеть, глядя в сильный телескоп на луну. Голые горы, напоминающие необитаемые развалины древних замков. Представьте себе, что вы — на дне лунного кратера давно потухшего вулкана.
Четате-Маре — это огромный пустующий кратер. Колоссальных размеров холм со срезанным куполом-вершиной, а вокруг — широким амфитеатром — скалы-атласы. И ни единого кустика, ни единой травинки вокруг. Камень. Глыбы, груды, плиты, кучи камня! То там, то сям угрожающе нависает осколок скалы. В другом месте скалу прорезает зияющая трещина, уходящая на дно кратера в бесконечность. А посреди этого грозного нагромождения скал и утесов можно увидеть нечто подобное воротам: величественный вход в парадный зал титанов. Заглянув в эти ворота, увидишь другую остроконечную гору, возвышающуюся над широкой долиной. Эта гора тоже голая, ни травинки не увидишь там — камни и камни. Только камень здесь особый — мелкий; самое крупное зернышко — не больше сверкающего аметиста.
Это — Четате-Маре.
Нет, не природа создала здесь потухший вулкан, стены, похожие на кратер лунных гор. Все это — дело рук человеческих. Творение римлян. Когда-то здешняя горная местность славилась золотыми приисками. Римские завоеватели пригоняли сюда рабов из Дакии, они-то и вырыли здесь эти кратеры в поисках золотоносных жил. И сейчас еще кое-где на стенах можно увидеть следы огня. В те времена пороха еще не знали, и для того чтобы раздробить скалу, ее сначала раскаляли кострами, потом обливали специальным уксусным раствором, и скала трескалась, дробясь на части.
Конусообразный террикон в долине возник после отвала отработанной породы; это горы просеянного каменного песка, из которого извлечены золотые крупицы.
Однажды вершина Четате-Маре обрушилась и похоронила под своими обломками копи. Говорят, что кратер до обвала был раза в два глубже, чем сейчас.
В завалах и сегодня еще находят памятники римской культуры: так, например, нашли керамическую дощечку с надписью о предоставлении свободы рабу-золотоискателю (между двумя пластинками этого древнего медальона была заложена прядь волос возлюбленной раба).
Живущий в окрестностях Четате-Маре бедный люд и теперь еще пытается добыть золото из камня.
Адский труд!
Золото — царственный металл, превращающий людей в своих рабов. Сама по себе скала — «мертвый камень», и только где-то в глубине пролегает слой, называемый «жилой». Золото вкраплено в нее бисеринками. Чтобы заставить блеснуть желтоватую жилу, порой нужно целые годы долбить, растирать и промывать камень. А бывают случаи, что, раз блеснув желтизной, жила снова исчезает, и тогда всю работу приходится начинать заново. Золото будто играет в прятки: золотоискатель должен прорваться к нему сквозь скалу.
Найденную золотоносную жилу бережно разделывают, сортируют: более богатую ее часть помещают в сухую камнедробилку, бедную — во влажную. Затем породу превращают в муку, пропускают через сито: по всей длине маленькой речки Верешпатак гудят и вздрагивают специальные установки, приводимые в движение течением, с помощью которых золото отделяют от камня. На днище длинных корыт остаются крупинки драгоценной руды, а камень, измельченный в песок, ссыпают в специальные мешки. Ему предстоит еще пройти через ряд ловушек и западней, прежде чем ему поверят, что в нем не содержится ни капли золотого порошка. Только тогда этим песком туго-натуго набивают большие мешки из лосевой кожи и кладут их под пресс Песок проходит через поры кожаного мешка, а на самом его дне остается золотистая пыль. Ее аккуратно соскабливают и везут в субботу в Дьюлафехервар, где обменивают на деньги. Так поступают труженики золотых копей.
Вот что называется золотыми россыпями.
Но не верьте этим громким словам! Никакая это не золотая россыпь, — здесь царство нужды, нищеты. Те, кто дробит здесь камень в поисках золота, ходят в лохмотьях, едят мамалыгу, живут в лачугах, умирают рано — это беднейшие люди на земле.
Настоящие золотые россыпи надо искать совсем в другом месте!
После операции с поставкой хлеба армии Тимар сразу же стал состоятельным человеком: купил дом на улице Рац, в самом центре города, — на «сити» комаромских купцов, где жила самая знать.
Это никого не удивило.
Золотые слова почившего в бозе его императорского величества Франца I, сказанные им в ответ на прошение одного интенданта о вспомоществовании! «Вол был привязан к полным яслям, почему же он не насытился?» — достойны, как мне кажется, того, чтобы стать карманной заповедью каждого интенданта.
Сколько заработал Тимар на военных поставках — никто толком не знал, но то, что он вдруг стал богатым коммерсантом, бросилось в глаза каждому. Он развил бурную деятельность, и денег у него на все хватало с лихвой.
В коммерции так бывает часто. Здесь самое трудное — заложить первый камень. Первые сто тысяч форинтов добыть действительно трудно, но если они уже в кармане, остальное приходит само собой. Удачливому открывается свободный кредит.
Лишь одного г-н Бразович никак не мог понять.
Он догадывался, что Тимар отвалил более щедрый процент с барыша «заинтересованному лицу», чем тот, который обычно давал он сам: потому, собственно, Тимар и получил привилегию на военные поставки, предоставлявшуюся прежде всегда ему, Бразовичу. Но как Тимар сумел отхватить такой большой куш, он понять не мог.
С того момента, как Тимар пошел в гору и открыл свое дело, г-н Бразович начал усиленно искать дружбы со своим бывшим шкипером. Он приглашал его к себе на приемы, и Тимар охотно являлся на званые вечера в дом Бразовичей. Ведь там он мог видеть Тимею, которая к тому времени уже научилась вести светскую беседу по-венгерски.
Госпожа Зофия теперь тоже благоволила к Тимару и даже однажды сказала Аталии, переходя с визга на шипение, что не мешает, мол, уделить больше внимания Тимару и улыбаться ему поприветливей, — ведь он теперь богат и считается завидной партией. И уж, во всяком случае, сто́ит больше трех офицеров, у которых нет за душой ничего, кроме франтоватых мундиров и уймы долгов. На что мадемуазель Аталия не преминула ответить: «…вовсе не следует, что я должна выходить замуж за слугу своего отца». Г-жа Зофия без труда догадалась, что началом фразы должно было быть: «Из того, что мой отец женился на своей служанке…» Это прозвучало заслуженным укором для г-жи Зофии: как она посмела оказаться мамашей такой благородной барышни?
В конце вечера г-н Бразович, оставшись за столом наедине с Тимаром, начал усиленно чокаться с ним. Считалось, что Бразович умеет пить, не хмелея. Конечно же, Тимар не выдерживал никакого сравнения с ним, да и где было ему познать эту науку?
Когда оба они уже сильно подвыпили, Бразович, как бы шутя, спросил Тимара:
— Скажи, Михай, только положа руку на сердце, как ты сумел так здорово разжиться на солдатском хлебе? Ведь я сам этим промышлял и знаю, какой здесь можно сорвать куш. И я примешивал в муку отруби и мельничную пыль и знаю, как эта штука делается, когда вместо чистого зерна молотят разное охвостье. Известна мне и разница между ржаной мукой и пшеничной. Но так много, как ты, я никогда не зарабатывал. Что за дьявол тебе помогал? Признайся! Ведь дело-то прошлое.
Тимар, с трудом поднимая отяжелевшие веки и едва ворочая заплетающимся языком, отвечал в шутливой форме:
— Да будет вам известно…
— Обращайся ко мне на «ты», запросто… Зови меня просто по имени…
— Да будет тебе известно, Атанас, что никакого колдовства здесь не было. Помнишь, как я скупил затопленную пшеницу со «Святой Борбалы» по бросовой цене: один форинт за меру? Так вот: я не стал ее распродавать по дешевке мельникам да крестьянам для откорма свиней, как все думали, а сделал иначе: быстро перемолол все зерно, испек хлеб и оптом сплавил военному ведомству по сходной цене.
— Ай да молодец! Вот у кого надо учиться на старости лет! Ай да Михай! Ну, а что, хлеб этот не застревал у солдат в горле?
Михай прыснул со смеха, чуть не захлебнувшись добрым глотком вина.
— Факт, застревал. Что было, то было.
— И никто не пожаловался в интендантство?
— А хотя бы и пожаловались — что толку? Все интендантство вот где у меня было — в кармане!
— А комендант крепости?
— Тоже, — воскликнул Михай, хвастливо ударяя себя по карману, в котором, по его словам, вмещалось столько важных чинов.
Глаза г-на Бразовича заблестели каким-то странным блеском. И, казалось, еще больше налились кровью.
— Выходит, ты скормил солдатам прелое зерно?
— Еще как! Ничего, у солдат желудки луженые. Ха-ха!
— Молодец, Михай, молодец. Только советую тебе держать язык за зубами. Мне ты мог спокойно рассказывать про это дельце, — ведь я твой доброжелатель, но если кто-нибудь из твоих недругов об этом узнает — не миновать тебе беды. Погоришь ты на этом деле в два счета вместе со своим домом на улице Рац. Так что знай себе помалкивай, — ясно?
Тимар изобразил на своем лице испуг и, будто бы сразу протрезвев, стал целовать Бразовичу руку, умоляя его не выдавать его тайны, не губить его. Бразович успокоил Тимара: нет, он никому ничего не скажет, на него спокойно можно положиться, только вот другим — ни слова.
Потом Бразович вызвал слугу, велел ему проводить г-на Тимара с фонарем до самого дома и наказал слуге взять г-на Тимара под руку, если ему станет плохо.
Вернувшись через некоторое время, слуга сообщил, что г-н Тимар едва доплелся до своего дома, по дороге пытался стучать в каждую дверь, а свою собственную так и не узнал, что по улице он еще как-то шел, а когда его насильно уложили в постель, то тут же заснул, как сурок.
Между тем Тимар совсем не был пьян. Дождавшись, когда уйдет слуга Бразовича, он поднялся с постели и до самого утра писал письма. Как в том, что завтра взойдет солнце, Тимар был уверен, что на следующий же день Бразович расскажет кому следует всю историю со злополучной пшеницей. И Тимар отлично знал, кому именно он это расскажет.
Не знаю, как теперь, а в те времена главным принципом государственной администрации был девиз:
«Stehlen und stehlen lassen» — «Воруй сам и давай воровать другим».
Не правда ли, удобный и вполне миролюбивый принцип?!
Но и у этой доброй системы был свой антагонист, а именно — другой жизненный принцип, родившийся во Франции. Не зря говорят, что француз во всем противник немцу. Звучал этот второй принцип так: «Ôte toi, que je m'y mette». В вольном переводе это означает: «Сам поживился, дай и мне!»
Отдельные правительственные чиновники состязались друг с другом в том, чтобы поудобнее пристроиться к дойной корове, и пока одни сидели у вымени, другие, схватив корову за рога, пытались повернуть ее задом таким образом, чтобы «bona vacca»[8] давала молоко только им.
Кроме трех имперских канцелярий, были тогда еще государственная палата финансов и коммерции, высший совет юстиции, придворный военный совет, имперское цензурное и жандармское управление, тайная государственная и придворная канцелярия и, наконец, статистический директориум.
Вся мудрость заключалась, таким образом, лишь в том, чтобы узнать, какое колесико этой сложной конструкции следует привести в движение для того, чтобы ларчик открылся и в него можно было бы запустить пятерню честному верноподданному. Что можно урвать для себя? И где? И у кого? С чьей помощью и под каким предлогом? Каким способом и когда? Кто твой друг и кто недоброжелатель твоего друга? У кого какие слабости и от кого в конечном счете зависит успешный исход задуманной махинации?
Такова наука всех наук.
Вот почему Тимар нисколько не удивился, когда несколько дней спустя после памятного вечера, проведенного у Бразовича, его вызвали в крепость, и там некий господин, отрекомендовавшийся главным советником по делам финансов и коммерции, сухим официальным тоном объявил ему, что он останется здесь под строгим надзором до конца следствия, и приказал передать ему ключи от дома и конторы, так как на его деловые бумаги и книги наложен арест.
Завязывалось серьезное дело.
Тайна Тимара стала известна государственной палате финансов и коммерции, которая находилась в постоянной вражде с военным министерством. Палате представился замечательный случай разоблачить скрытые злоупотребления в интендантском корпусе своего противника и прибрать к рукам все военные поставки. Эту атаку поддерживали все три имперские канцелярии, в то время как военное министерство могло рассчитывать лишь на поддержку жандармского управления. Дело дошло до государственного канцлера, который немедленно снарядил специальную комиссию, получившую строжайшее указание никого не щадить и чрезвычайные полномочия, в случае надобности, распустить весь интендантский корпус военного совета, доставить в столицу коменданта и командующего военной округой, арестовать главного интенданта, инкриминировать ему уголовное дело, — одним словом, все довести до конца. Ведь в полученном анонимном доносе были исчерпывающе изложены все факты злоупотребления. Стоило найти подтверждение — хотя бы одну буханку прелого хлеба, выданную в паек солдатам, как Тимар мог считать свою песенку спетой.

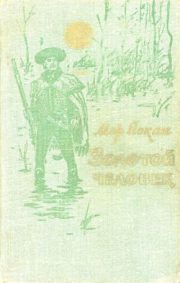
"Золотой человек" отзывы
Отзывы читателей о книге "Золотой человек". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Золотой человек" друзьям в соцсетях.