Битва длилась еще много часов, но ничего уже не видели голубые глаза двадцатилетнего полководца. Англичане действительно отошли назад, но это было не отступлением, а только стратегическим маневром, чтобы уйти от невероятного слепого нажима французов. Отступление это сослужило англичанам неоценимую пользу. Французская кавалерия в буквальном смысле сама себя погубила. Своих лучников французы поставили в тыл, ибо негоже представителям низших сословий идти в первых рядах войска. Поэтому стрелять они могли только в спины своих баронов, которые по праву шли впереди. И тут англичане, босые, в легких кожаных доспехах, внезапно появились из леса, окружавшего со всех сторон поле, и начали крушить английских воинов, одетых в неуклюжие стальные латы. Этот маневр вскоре решил исход сражения. При этом каждый четвертый из воинов, которые еще совсем недавно были так веселы и беспечны, так уверены в скорой и легкой победе, остался лежать мертвым на этом поле. Десять тысяч жаждущих сражения, непобедимых молодых людей тихо лежали на поле Азенкура. Ни тебе победы, ни славы — только тишина. И в этой тишине медленно обходили павших и раненых англичане в поисках дорогого оружия и драгоценностей. Выискивали они также и знатных пленников. Когда они подошли к Карлу Орлеанскому, тот был еще жив.
Вместе с Бурбоном, Вендомом и несколькими другими, избежавшими смерти, его на повозке доставили в Кале. Они предпочли бы лучше умереть, чем быть узниками Генриха и постоянно выслушивать его бесконечные проповеди и морали.
Со всеми почестями их усадили за пиршественный стол короля Генриха, однако глаз не спускали. Пленники старательно перемешивали еду в своих тарелках, набросав туда кусочки хлеба и сделав вид, что полностью поглощены этим занятием. Головы они поднимали редко, только тогда, когда замечание короля или какой-либо его вопрос относился лично к ним. В их сознании рядом с ноющей болью, вызванной позором и унижением, вертелась только одна мысль — как скоро смогут их выкупить из плена? Английский король не торопился обсуждать этот вопрос, но заверил, что пребывание в гостях в такой стране, как Англия, весьма полезно. Он даже пошел дальше и, кажется, ожидал от них что-то вроде благодарности за то, что увозит их из жестокой Франции.
Философский склад ума не позволил Карлу поддаться всеобщему унынию. Он делал вид, что сосредоточен на еде, а сам исподтишка наблюдал за королем. Это было довольно забавное зрелище. Умные пытливые глаза никак не вязались с полными чувственными губами, причем эти губы непрерывно изрекали благочестивые сентенции. Король наслаждался и не скрывал этого. Карл улыбнулся про себя, подумав, что в такой обстановке немудрено получать удовольствие, когда твои враги повержены и вынуждены выслушивать все, что ты им ни скажешь.
— Воздержание, — говорил король с набитым ртом, едва шевеля языком, — умеренность, эти понятия вам, французам, неведомы. Вы предаетесь разврату и пьяному разгулу даже в святые дни. Неудивительно, что Господь отвернулся от вас.
Он оглянулся вокруг в ожидании аплодисментов и получил их, увидев, как согласно закивали головами его епископы.
«Какая прелесть, — подумал Карл, глядя на короля и стараясь не выдать иронии во взгляде, — неужели он забыл, как совсем недавно, будучи принцем Хэлом, пьяный обходил одну таверну за другой, инкогнито, но каждому желающему с готовностью прямо в ухо орал, кто он такой».
Карл оглядел стол и увидел, что об этих похождениях нынешнего монарха помнит каждый из присутствующих, кроме, пожалуй, самого короля. Поглядев на хмурое, презрительно надутое лицо Бурбона, Карл снова про себя улыбнулся.
— Но только не в святые дни, — пробормотал он себе под нос и заметил испуганно-удивленные взгляды, которые устремили на него несколько придворных Генриха.
Их держали в Кале еще несколько недель. За это время им пришлось выслушать немало проповедей короля, и только в середине ноября Карл и другие знатные пленники были погружены на флагманский королевский фрегат, который и отбыл в Дувр.
«Это просто сон, кошмарный сон, — думал Карл, наблюдая, как исчезает за горизонтом французский берег. — Конечно, это сон. Скоро наступит утро, и я проснусь в своем доме в Блуа рядом с Бонн, моей молодой женой». Он вспомнил ее чарующую красоту, ее прелести, и тоска железной рукой сдавила сердце. Боже, в каком Раю он жил. Ведь это был Рай, подлинный Рай, где он мог предаваться беззаботной, абсолютно счастливой жизни с красавицей женой, там у него были поэзия, свои книги, свои земли и замки, дающие ему все необходимое».
«Как же это так? — говорил он про себя. — Не может же все это кончиться вот так, бездарно. Нет, это кошмар, и я снова после пробуждения окажусь в Блуа».
Но прошло двадцать пять лет, прежде чем ему вновь удалось увидеть свой дом. А темноволосую свою, улыбчивую Бонн он никогда больше не увидел. Она умерла через несколько лет после его пленения.
Один за другим после внесения выкупа обретали свободу узники Генриха. Они прощались с Карлом, немного стесняясь своего счастья и сожалея, что он не с ними. Однако Карл был самым важным заложником, ибо мог следующим после дофина претендовать на французский трон. А дофин был очень хилым. Поэтому рано было отпускать Карла Орлеанского домой. Его переводили из одного узилища в другое. Из лондонского Тауэра, где он находился в полном заточении, в Виндзорский замок, предоставив в распоряжение дюжину комнат, кучу лакеев и всевозможные удобства. Затем его перевели в Понтефракт, где опять держали за семью замками. Именно Понтефракт Карл особенно ненавидел из-за климата.
— Что за страна, о Боже! — жаловался он своим слугам. — Даже солнце посещает ее так редко, как только возможно. Меня удивляют люди, живущие здесь. Они не узники, они свободны, и все-таки остаются здесь. Я предпочел бы быть псом во Франции, чем королем в Англии.
— Вы, наверное, просто замерзли, — возражали ему. — Может, вам принести теплое одеяло из английской или шотландской шерсти? Тогда вы согреетесь и почувствуете себя лучше.
— Да нет же, дело не в одежде, — искренне заверял их Карл. — Этот холод приходит ко мне изнутри, не снаружи. Шерстью его не одолеешь. Я носил уже эти глупые одежды и знаю. Я укрывался таким одеялом. — Затем он приказывал подать свой легкий элегантный шелковый костюм и снова съеживался от холода.
Шли годы, а он их как будто не замечал. В его сознании это был один длинный дурной сон, от которого он должен был однажды пробудиться. Надежда позволяла ему выжить, а способность отрешиться от реальности сохранила спокойный взгляд на вещи. И сам факт, что он находится в заключении, был для него не так уж важен, особенно после смерти жены, поскольку он всегда имел склонность к одиночеству и медитации. Но, когда Карл просыпался утром и вместо приветливого французского солнца видел в окне серые английские небеса, жестокая ностальгия, подобно приступу тяжелой болезни, сотрясала все его существо. Душа его нуждалась в пище. А пищей этой были горы и озера, солнце и звонкий смех французских девушек.
Юность прошла, проходила и молодость, а две страны по-прежнему враждовали, и вражда эта держала его здесь, в заточении. Много времени проводил он в молитвах о мире. Во всех своих бедах он винил войну. Первая и единственная битва преподнесла ему жестокий урок: война — это вовсе не красивое живописное представление, каким он рисовал ее в своих стихах. В действительности это грязный кровавый кошмар.
А за тюремными стенами тем временем кипели страсти. Англия, по-прежнему претендуя на французскую корону, вновь вторглась на территорию Франции и далеко продвинулась, вплоть до стен Орлеана, сметая все на своем пути, сжигая урожай крестьян и их деревни, разрушая города. Карл сидел, не выходя из своей комнаты. Невыносимо было для него слышать ликующие возгласы англичан, когда они поздравляли друг друга со скорым окончанием войны, с победой. И, кажется, это было действительно так. Дряхлый король Франции наконец умер, хворый дофин испуганно свернулся калачиком за мощными стенами Орлеана. Никаких шансов у него не было. Станет ли сильный король Хэл (уже другой Хэл — Генрих VI) также и королем Франции было делом месяцев, а то и недель. Но тут случилось непредвиденное. Сводный брат Карла по прозвищу Орлеанский бастард — прозвище, которое он с гордостью носил всю свою жизнь, — и деревенская девушка, вошедшая потом в историю как Орлеанская дева, возглавили оборону города. Им удалось переправить трепещущего дофина в Реймс[10], где тот был помазан священным елеем и коронован как король Франции.
Денно и нощно Карл возносил молитвы, умоляя Господа даровать мир многострадальной Франции. Но мир так и не наступил, хотя, благодаря энтузиазму и отваге Жанны Д’Арк и Орлеанского бастарда ход войны круто переломился. Очень важным оказался факт официальной коронации и помазания дофина в Реймсе[11]. Генрих VI был вынужден вывести свои войска из Франции, по крайней мере на время, хотя мысль заполучить французскую корону не оставил. Во всяком случае Карл снова смог спокойно вздохнуть.
Лето сменяла осень, шли годы, и наконец начались переговоры об освобождении Карла Орлеанского. Дело в том, что у французского короля были дети, поэтому Карл перестал представлять особую ценность как заложник. Цена была назначена, и, хотя она была для него почти непосильной, он ее принял в обмен на свободу. Его сводный брат, услышав цифру выкупа, только тяжело вздохнул и печально подумал о разоренных провинциях герцогства. Затем распрямил свои мощные плечи, которые долгое время несли груз забот Орлеана, и потянулся за кошельком, чтобы выплатить первый взнос.
Так, в 1440 году, спустя двадцать пять лет после того, как Карл покинул Блуа, он был освобожден и снова туда вернулся.
И сразу окунулся во Францию, подобно тому, как усталое дитя приникает к материнскому плечу. Вне себя от счастья, что наконец вернулся домой, он зажил тихой жизнью в Блуа, объезжая свои владения с молодым мажордомом де Морнаком по прозвищу Благодетель. Де Морнак очень рьяно взялся за восстановление разрушенного хозяйства провинций, умело используя средства, дарованные королем Орлеану в благодарность за поддержку. По вечерам Карл читал и писал стихи. В общем, жизнь его была наполнена до краев, одно только сейчас ее омрачало — не было у него наследников. И он стал подумывать о женитьбе.
В первые дни после возвращения из Англии он, взглянув как-то на себя в зеркало, увидел немолодое лицо с запавшими глазами и со вздохом произнес:
— Я все эти годы играл со временем в мяч. Теперь у меня на счету сорок пять!
При счете больше пятидесяти он нашел наконец себе подходящую невесту, четырнадцатилетнюю Марию из Клеве, милую застенчивую блондинку.
— Она похожа на солнечный зайчик в саду, — воскликнул Карл, увидев ее в первый раз, и продолжил с улыбкой разглядывать. Если сам не молод, то пусть хоть молодой будет жена. И на том спасибо судьбе. Бонн давно уже нет, настолько давно, что мысль о ней нисколько не мешала ему любить свою новую невесту. Он спокойно принял, как данность, тот факт, что молодость не вернуть, даже если крепко ее обнять, даже если прижаться к ней.
Маленькую Марию Клевскую никто не спрашивал, хочет ли она замуж. Воспитанная в духе своего времени, она полностью полагалась на родителей. И, когда взволнованная мать вошла к ней поправить прическу и проверить, как затянут на талии пояс, — это было в день принятия предложения герцога Орлеанского — Мария послушно выполнила все ее наставления.
В тот день она вела себя безупречно, только вот перед тем как войти в зал, зажмурилась и задержала дыхание, отчего щечки ее слегка порозовели. Жених показался Марии весьма приятным мужчиной, и она не чувствовала себя несчастной, ни стоя перед епископом в момент венчания, ни позднее, ложась с ним в постель.
— Странно, — задумчиво сказала она себе утром, — сколько всего мне об этом говорили, а оно совсем и не страшно. Конечно, женщине, чтобы иметь детей, приходится идти на некоторые неудобства, но все совсем не так плохо, как я прежде думала…
Карл был внимательным и нетребовательным супругом, а чувствовать себя хозяйкой Орлеана в огромном замке в Блуа с пышным убранством его комнат и великолепными садами и парками вокруг просто восхитительно.
Орлеанский замок стоял высоко на покрытой зеленым лесом горе, возвышаясь над Луарой, обращенный фасадом к Блуа. Массивные башни, крепкие высокие стены, изящные арки — все это было сооружено, чтобы противостоять и времени, и вражеской осаде.
К моменту появления в нем Марии замку исполнилось уже две сотни лет. Своей мощью и красотой он был известен всей Франции. Внутри комнаты блистали изысканным убранством. Поражали воображение сверкающие мозаичные полы, высокие сводчатые потолки со сложной золотой лепниной, полированные плиты каминов и изящные бронзовые принадлежности к ним, толстые персидские ковры, резные столы и стулья из Италии, кровати с балдахинами, убранные тончайшим бархатом, парчой и атласом. Стены замка украшали гобелены, привезенные из Бретани и Фландрии. Обращала внимание помпезная галерея портретов герцогов и герцогинь Орлеанских в массивных золоченых рамах. Стоит упомянуть также и о кованых железных воротах из Испании, золотых и серебряных блюдах и тарелках с рельефным рисунком из Милана и Флоренции, драгоценных кубках из Венеции. Короче говоря, в создании красоты и комфорта здесь приняла участие вся Европа.

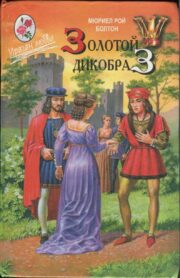
"Золотой дикобраз" отзывы
Отзывы читателей о книге "Золотой дикобраз". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Золотой дикобраз" друзьям в соцсетях.