С другой стороны, не мог же он надеяться, что в самом деле будет всегда оставаться все тем же метким стрелком, страстным охотником, тем же пользующимся огромным успехом танцором, который когда-то на балу у тетки согласился со своей дамой, что в реальной жизни много печального.
Разочарование, испытанное им в ту же ночь из-за пола своего первенца, вскоре уступило место страстной любви к дочери. Он очень гордился грациозной фигурой своей Риппл, ее густыми темными волосами, ее игрой в теннис, ее танцами. Ему доставляло удовольствие учить девочку вальсу в гостиной, причем вместо музыки он просто насвистывал избитые мелодии, под которые в свое время сам учился танцевать:
Люби меня, люби меня вечно,
Люби, зачем нам быть строгими!
Ах, любовь, разве ты никогда (короче этот тур, Риппл!)
Не вернешься опять (вот так)!
В глубине души отцу Риппл было немного неприятно видеть те новые танцы, которые показывал его ученице этот повеса Хендли-Райсер под граммофон, наигрывавший:
Приди и приласкай меня!
Приди и приласкай меня,
Радость моего сердца!
Мне все равно, что говорят,
Я хочу только тебя одну!
или какую-нибудь другую американскую песенку.
– Но это меня убьет, если придется видеть, как моя дочь выламывается перед публикой, чтобы заработать на жизнь. – Его приятный внушительный баритон стал неузнаваемо строгим, когда он ответил на впервые заданный ему вопрос по этому поводу. – Клянусь, я против! Русский балет или не русский – все равно. Мы можем испытывать теперь материальные затруднения, но мне трудно себе представить, что я отпущу свою дочь прыгать по сцене и задирать ноги для забавы толпы. Что? Она этого хочет? Что вы хотите сказать словами «она вкладывает в это душу»? Как жаль, что Риппл разрешили выступать с деревенскими школьниками на том проклятом празднике! Мне и в то время это не нравилось. Я так и говорил.
Ничего такого он не говорил, но не время было напоминать ему об этом. Сердито дернул он остаток своего каштанового уса, который теперь стал слишком коротким, чтобы его можно было закусить крепкими белыми зубами.
– Расстраивают ребенка и забивают ему голову чепухой, – ворчал он. – Вредный вздор! Как я могу решиться отпустить мою дочь, одну из всей семьи, чтобы она попала в компанию балетных девчонок, которые строят глазки, в компанию этих прыгунов…
– О, папа! – протестующе воскликнула тоненькая девочка.
Описанная сцена происходила в курительной комнате майора Мередита, в доме, где протекли пятнадцать лет жизни Риппл. Комната была темной, ибо окна ее выходили на берег, поросший кустарником, который окружал круто спускавшийся к реке фруктовый сад. Ветви деревьев стучали в окна; бледно-розовые головки роз прижимались к стеклам. В комнате было сыро, так как она находилась как раз над подземным ручьем; в ней стоял затхлый запах плесени, табака, старых книг и стертой кожи кресел. Стены ее украшали детское оружие, ржавые охотничьи ружья, старинные пистолеты. Висела в рамке фотография группы курсантов военной школы, среди которых стоял и молодой Гарри Мередит.
Был там еще один портрет: прабабушка Мередит семнадцатилетней девушкой. На ней было темное шерстяное платье, спускавшееся до самого ковра наподобие водолазного колокола, с большим кисейным воротником, на голове – кружевной чепец. В общем этот наряд так же шел цветущей девушке, как ее правнучке Риппл то, что было на ней надето: темно-синий костюм для тенниса и юбка из саржи, шерстяные чулки, когда-то черные, но выцветшие.
– Папа, – снова заговорила Риппл тоном, которому она старалась придать твердость и убедительность. – Артисты теперь совсем не такие!
– Может быть, ты скажешь мне, какие? – спросил отец, насмешливо прищурившись.
– Нет! Но они не такие! Все меняется! Есть много хороших девушек в балетных, театральных и других школах. Мне это так нравится! Мне так хочется попасть в балетную школу, папа. Дорогой папа, через два-три года я вырасту, и тогда будет слишком поздно. Что же, мне ничем не заниматься? Оставаться все время здесь?
Майор Мередит считал себя человеком достаточно благоразумным. Но этот последний довод его возмутил. Дело было не только в том, что он неодобрительно относился к намерению Риппл поступить в балетную школу. Он не соглашался на это, это ему не нравилось, не настолько он был свободен от предрассудков долины, чтобы поверить в то, что девушка из хорошей семьи может выбрать себе профессию, которая когда-то считалась в обществе невозможной, и никакой катастрофы не произойдет.
Но Риппл заговорила о том, что годы идут, и она скоро станет взрослой. Уж не считает ли девочка отца выжившим из ума стариком? Его глубоко задел незнакомый блеск в глазах дочери и новые нотки, прозвучавшие в ее голосе, когда она ему отвечала. Он никак не мог примириться с мыслью, что какая-то женщина может не дорожить его обществом. И что же – его собственная юная дочь хочет уйти от него!
– Разве ты не счастлива здесь, Риппл?
– Я была бы ужасно счастлива, если бы только ты меня отпустил. О, пожалуйста, отпусти меня! Позволь мне учиться, как это делают многие хорошие девушки! Они относятся к учебе очень серьезно, папа! Они работают страшно много, они так трудятся…
– Возможно, но ты этого не будешь делать и не поедешь! – Голос отца стал твердым и суровым. Он взял перочинный нож и стал резко скрести и выскабливать черное, плохо пахнущее отверстие своей курительной трубки. Майор Мередит занялся этим делом, чтобы не смотреть на взволнованное, умоляющее молодое лицо.
– Я не хочу больше слышать об этом. Ты понимаешь, Риппл?
– Да, папа, но…
– И тебе лучше раз и навсегда выбросить эту мысль из головы. Слышишь?
Риппл сжала свои нежные губы, смахнула слезы, которые повисли на ее густых темных ресницах, и еще сильнее прониклась той мыслью, которую ей посоветовали выбросить из головы. Майору, знавшему многих женщин, следовало бы понимать, что когда женщине (даже только подрастающей женщине) приказывают не думать о чем-нибудь, то именно эту мысль она будет непрестанно и любовно лелеять. Но отец Риппл привык делить всех женщин на два разряда, которые ничего общего между собой не имели. К первому из них относились женщины вообще, ко второму – женщины его семьи.
Для второго у него были совершенно иные критерии. Отсюда проистекали его многочисленные ошибки. Отсюда и его неспособность понять, что отныне Риппл всецело предастся во власть запретной мысли. Ее страсть к танцам окажется настолько сильной, что в будущем даже любви придется вступить в борьбу с этой первой страстью.
Выскользнув из темной комнаты, непокорная Риппл откинула назад свои темные кудри и подумала: «Но я хочу. Я должна. Мне все равно. Что будет, то будет. Я уеду отсюда, даже если папа не захочет и слышать об этом. Я буду балериной!»
Голос ее желания был громче всех запретов!
Вторым голосом, напевавшим тот же лейтмотив, был исполненный достоинства, всегда возмущенно звучащий глубокий грудной голос миссис Бекли-Оуэн, тетушки Бэтлшип.
– Я разочарована в Риппл, – заявила она.
На сей раз разговор происходил в гостиной дома Мередитов. Эта комната, обставленная скромно, но уютно, производила более приятное впечатление, чем курительная. Окна ее выходили на лужайку. В ней было много живых цветов (они ничего не стоили), стояли поблекшие искусственные розы, висели в рамках фотографии мальчиков. Обстановку комнаты составляли разношерстные кресла, плетеные стулья, позолоченный парадный диван и пуф. Самые потертые места большого ковра прикрывались ковриками.
Почти на каждом кресле и стуле лежали, видимо, забытые там, вещи Рекса Мередита, единственного из мальчиков, находившегося тогда дома: детское ружье, грязный скомканный носовой платок, разрозненная коллекция марок, детская книжка в переплете и в ней вместо закладки – долото, позаимствованное в отцовской мастерской. Несмотря на беспорядок и отсутствие предметов роскоши, комната отличалась своеобразной прелестью.
В тот момент Риппл не сознавала этой прелести. Она ощущала только все крепнущее желание уехать, вырваться за пределы замкнутого домашнего мирка. Девушку уже не привлекал созданный ее воображением призрачный мир книжной романтики. Она начинала понимать, что реальная жизнь значительно интереснее книг, и стремилась к этой жизни – прочь отсюда. Прочь!
Дорогу ей преграждал громоздкий серый барьер в лице сидевшей в большом кресле тетушки Бэтлшип. Повернув свой профиль римской матроны, возвышавшийся над плотным серым боа из перьев, тетушка заявила:
– Да, я разочаровалась в тебе, Риппл. Я могла бы надеяться, что моя племянница проявит благоразумие и не станет мечтать, а тем более выражать желание уйти из родительского дома и гнаться неведомо за чем только потому, что польстили ее тщеславию, только потому, что ее похвалила совершенно чужая женщина. И к тому же иностранка. Очень печально. Что касается тех людей, которые привезли сюда эту женщину, то они меня удивляют. В самом деле, теперь, видимо, не задумываются над тем, кого к себе приглашают.
– Но это русская балерина, тетушка! Она известна всему миру; танцует во всех театрах, во всех европейских столицах; ее портреты есть во всех галереях; она объехала всю Америку, была везде…
– Очень возможно. Но я не вижу, какое это имеет отношение к нашей семье.
– Но если она так знаменита, видела танцовщиц всего мира и думает все же, что меня стоит учить…
– Вздор, дорогая моя. Смешно принимать всерьез какое-то случайное замечание. Эта русская похвалила твой танец на моем празднике из любезности. Но совершенно невероятно, чтобы она действительно думала, что ты уже хорошо танцуешь и можешь мечтать стать профессиональной балериной, даже если бы речь шла только об этом. Она вовсе так не думала.
– Именно это она и хотела сказать, тетя. Правда. Она сказала это! Разве вы не слышали? У нее небольшая школа для девочек, которым она помогает учиться. Она говорила мне об этом. Там преподает один из ее друзей. Русская балерина сказала, что напишет маме. И написала! Она дала адрес своих друзей, где я могу остановиться. В лучшей части Лондона. Она все берется устроить. Это просто замечательно с ее стороны. Тысячи танцовщиц отдали бы все на свете за такую удачу! А мне это предлагают! Несмотря на то, что я вышла из того возраста, когда обычно начинают учиться. Большинство девочек начинают с восьми лет, тетя. С восьми! А мне пятнадцать. Но Мадам сказала, что могла бы меня учить. Она наговорила мне много хорошего о моих природных способностях к танцам, о моих движениях, жестах, о моей фигуре. О тетя, будьте на моей стороне! Поговорите с папой. Скажите, что он должен согласиться на мой отъезд. Он должен. Это было бы…
– Очень нежелательно. Не думай об этом. В твоем возрасте уехать к совершенно чужим людям… Нет! Никто из нас – ни Оуэны, ни Мередиты не позволяли себе и думать о чем-либо подобном.
Непокорная Риппл упрямо подумала: – «Нет, никто из их девушек ничего не делал, они только выходили замуж. Или же не выходили замуж, как бедная кузина Мейбл, что еще хуже».
Мейбл Бекли-Оуэн, которая считалась такой неинтересной девушкой еще до рождения Риппл, было теперь тридцать шесть лет. В жизни ее ничего не произошло, только с годами она похудела, стала молчаливее, с большим увлечением работала в саду и занималась благотворительностью. Иногда у Риппл появлялось тайное предчувствие, что так как ее считают «немного похожей лицом на кузину Мейбл», то она может стать похожей на нее и во всем остальном. Но нет! Минуту спустя она снова верила, что ничего подобного не может случиться с ней, Риппл, которой так легко дышится, которая так полна жизни…
Мать кузины Мейбл продолжала:
– Я думаю, Риппл, ты должна понять, как эгоистично с твоей стороны стремиться уйти из дому. Подумай о своей дорогой матери и об отце. Подумай о мальчиках, на которых нужно столько тратить. И на них еще много лет придется тратить, – глубокомысленно заметила тетушка Бэтлшип. Она любила мальчиков. По ее мнению, в семье не могло быть слишком много мальчиков. Она часто и щедро помогала семье Мередитов, давая деньги на воспитание мальчиков, но доходы ее были уже не те, что до войны.
– Вот, например, Джеральд; он еще, по крайней мере, четыре года должен пробыть в Эппингемской школе. А Минимус! О, это будет большим облегчением, если Минимус закончит свое образование к концу этого семестра. Затем нужно платить в начальную школу за Бенджамина и за дорогого Ультимуса… – Поколение тетушки Бэтлшип было склонно украшать имена родственников прилагательным «дорогой», что особенно соответствовало ее отношению к Ультимусу. А одевать их! А их карманные деньги! А эти подписки, сборы, которые вечно проводятся в школах! И сотни мелочей, о которых приходится всегда думать! А покупки, починки – право, одному человеку не под силу справиться с этим. И постоянно нужно заботиться о них, убирать за ними!

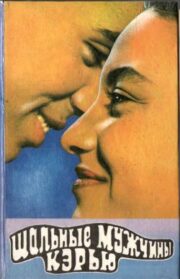
"Звезда балета" отзывы
Отзывы читателей о книге "Звезда балета". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Звезда балета" друзьям в соцсетях.