Впрочем, у Машеньки тоже терпение поиссякло, а может, запас слез у нее был поменее, чем у Глашеньки; и едва молоденькая горничная начала по третьему разу повторять все свои плачи и причеты, как Маша столь яростно на нее цыкнула, пригрозив немедля, сейчас же, выкинуть девку на проезжую дорогу (а ехали по дремучему лесу, и вечерело, и собирались в небе тучи), ежели та не утрется и не прекратит плакать вовсе, что Глашенька, никогда барышню свою во гневе не видевшая, тотчас умолкла, лишь напоследок вымолвила:
— Тогда и вы, барыня Марья Валерьяновна, не плачьте, не то мои слезы вослед за вашими потекут, пусть и против моей воли!
Маша неожиданно для себя самой рассмеялась… и вдруг почувствовала, что плакать-горевать ей более и не хочется. Она с изумлением обнаружила, что слезы ее надолго высохли и она с интересом глядит в окно, даже любуется окрестностями, и подивилась переменчивости сердца человеческого, которое властно влечет нас от печали к удовольствиям, неуклонно побуждает к мечтам воображения. Маша вспомнила, как они с Алешкою рассматривали географические карты и думали: «Вот хорошо было бы видеть все те земли, которые изображены здесь, на бумаге!» Теперь мечта ее отчасти сбывалась, пусть даже и глядела она тогда на очертания Африки и Америки, а ныне ехала по Западной России, приближаясь к Германии.
Погода стояла превосходная; в день проезжали верст семьдесят. В придорожных корчмах находили привычные блюда: суп или щи, жареное мясо, яичницу.
Миновали Ригу — это еще была Россия, несмотря на непривычную архитектуру, мощенные камнем, косые да горбатые улочки.
Три дня ехали по Курляндии. Только и радости, что в здешних корчмах везде находился кофе! Дорога была довольно пуста, окрестности занавесились пеленою дождя, и Маша почувствовала, что к ней подступает болезненная скука долгого пути.
Однако тут же судьба подарила ей нежданное «развлечение».
Едва проехали польскую границу. Осмотр таможенный был не строгий, Машеньке на слово поверили, что ничего запретного нет в ее вещах.
Дождь усилился; не сделав обычного верстового дневного урока, пришлось стать на ночлег. День нынче выдался скучный, какой-то особенно утомительный. У Глашеньки глаза с утра были на мокром месте, да и сама Маша едва сдерживалась, чтобы не предаться хандре всецело, и вяло ковыряла ложкою неизбежную яичницу.
В корчме они были единственными постояльцами, но не успела Маша взяться за чай, как распахнулась дверь и в комнату ворвался человек в насквозь промокшем плаще и в шляпе, с полей которой изливались целые потоки воды. Даже не сделав попытки отряхнуться или раздеться, он обратился к хозяину на таком бешеном польском, что Машенька, которая языка сего вовсе не знала, даже уши невольно зажала, ибо польский язык, как известно, изобилует шипящими звуками, а приезжий от ярости еще и присвистывал, то и дело срываясь на крик.
У бедного хозяина ноги со страху подкашивались, но своим явным страхом и покорностью не смог он смягчить свирепого гостя. У него, видимо, не было того, о чем просил, вернее, чего настойчиво требовал вновь прибывший, и он снова и снова разводил руками, а лицо его все более вытягивалось, словно ему грозила некая страшная кара.
Маша, с трудом сдерживая смех — было что-то комичное в этой сцене, несмотря на ужас бедного трактирщика, — пыталась разобрать хоть слово в этом свистяще-шипящем диалоге, как вдруг незнакомец воскликнул совершенно по-русски:
— Матушка Пресвятая Богородица! — и отчаянным жестом сорвал свою мокрую шляпу, с которой полетела туча брызг, окропивших даже Машу, сидевшую поодаль, так что она невольно вскрикнула.
Незнакомец живо обернулся к ней и рассыпался во французских извинениях самого изысканного свойства, однако Маша прервала его с улыбкою, — ибо не могла не улыбаться, глядя в сие добрейшее, курносое да румяное, юное лицо.
— Прошу вас говорить по-нашему, сударь, — сказала она. — Мы завтра пересечем прусскую границу, и Бог весть, когда мне вновь придется беседовать с соотечественником.
Лицо незнакомца тотчас омрачилось.
— Ах, сударыня! — Он порывисто схватился за голову, причем изящный пудреный парик с черной лентою съехал на сторону, открыв светло-русые вихры, куда более идущие к этим простым чертам и свежему цвету лица, нежели суровые букли парика. — Ах, сударыня, судьба оказалась ко мне неблагосклонна. Впрочем, с вашего позволения мы могли бы продолжить путь вместе, обозом, знаете ли, ведь пошаливают и в цивилизованной Пруссии!
— Не трудитесь меня пугать, — улыбнулась Маша. — Вы присядьте, обсохните, выпейте чайку — глядишь, все беды и не такими страшными покажутся.
Она сама подивилась взрослой, женской мудрости и спокойствию, прозвучавшим в ее голосе, хотя этот юноша по виду был ей ровесником, а может быть, и на год-другой постарше. Просто ей почему-то подумалось, что ничего дурного не может случиться с обладателем такого наивного лица и голубых детских глаз, которые, однако же, вдруг подернулись слезами.
— Ах, сударыня! — воскликнул незнакомец трагически, падая головою в стол с таким стуком, что подпрыгнули миски, а на лбу непременно должна была явиться преизряднейшая шишка. — Я несчастнейший человек на свете! — И он залился слезами столь искреннего и заразительного отчаяния, что даже кучер, корчмарь и Данила враз зашмыгали носами, а Глашенька так и зашлась рыданиями, сопровождая их уже знакомыми Маше сладкими всхлипами и подвываниями.
Маша, Бог весь почему, и так едва-едва смех сдерживала — а тут и вовсе разошлась. Впрочем, дрожь ее голоса и судорожные заикания (она пыталась не дать прорваться обидному хохоту) плачущий юноша принял за сочувственные всхлипывания и, чуть подняв от стола зареванное лицо (на лбу, и точно, вызревала опухоль), прерывающимся голосом поведал, что имя его и звание — граф Егор Петрович Комаровский, состоит он при министерстве иностранных дел курьером и послан был неделю назад в Париж, к русскому послу Барятинскому, с подарками для передачи министрам французского двора по случаю очередной годовщицы заключения торгового трактата между Россией и Францией. Графу Анри де Монморену, бывшему воспитателю христианнейшего короля Людовика XVI, а ныне министру иностранных дел, предназначался перстень с прекрасным солитером, подобный же перстень — фельдмаршалу де Кастри, а графу Сепору, министру военному сухопутных сил, — соболий мех и полная коллекция русских золотых медалей. Подарки сии уложены были в двух ящиках и являли собой немалую ценность, хотя и невеликую тяжесть. Для сохранения тайны своей миссии и скорости передвижения Комаровский поехал в партикулярном платье [75] и на перекладных (так было принято среди правительственных курьеров в то время).
Едва миновали границу и граф Комаровский пересел на польских почтовых, как настигла его беда великая: начало смеркаться; кучер, молодой человек, почти мальчик, который, по его словам, впервые ехал сей дорогою, сбился с пути; а через еще малое время повозка с лошадьми угодила в огромную топкую лужу и увязла в ней по самые ступицы. Сколько ни бились Комаровский с возчиком, они насилу смогли вытащить лишь одну из пристяжных лошадей. Комаровский не знал, что делать — послать ли кучера на ближнюю почтовую станцию за помощью, или самому поехать? Кучер, впрочем, уверял, что его на перегонной никто почти не знает — он в деле своем новичок, — и новых лошадей просто так, без обмена, ему нипочем не дадут. Тогда Егор Петрович решился идти сам. Вооружив кучера на всякий случай своими двумя пистолетами и саблею, он сел верхом на отпряженную лошадь и поехал, сам не зная куда. Блукал он, блукал, покуда не наткнулся на сию корчму, оказавшуюся вовсе не почтовою станцией; вдобавок здесь нельзя было сыскать ни лошадей, ни подмоги, и куда теперь ехать во тьме — хоть глаз выколи, — где искать помощь, он не представлял и почитал жизнь и честь свою вовсе пропащими.
Тут, разумеется, последовал новый взрыв отчаяния, с готовностью поддержанный добросердечною Глашенькою.
Маша поглядела на Данилу с кучером и увидела, что они оживленно обсуждают что-то шепотом. И неведомое прежде ощущение — некий будоражащий, азартный холодок — вдруг охватило ее. Она еще не знала, что этот холодок — предчувствие нового опасного приключения — на долгое время станет для нее заменою счастья, одним из движителей ее существования, ибо судьба наделила ее, в придачу к нежнейшей, женственнейшей внешности, отвагою и азартом заправского бретера, и опасность, вернее, одоление страха перед опасностью, скоро сделается для юной баронессы Корф необходимейшей приправою к унылой будничности существования. Сейчас же она понимала лишь, что непременно должна помочь этому пригорюнившемуся, отчаявшемуся мальчику. И не только должна — ей этого безумно хотелось!
— Вот что, сударь мой, — проговорила Маша и снова подивилась твердости своей речи, — сколь мне понятно, оставлять поклажу вашу Бог весть где на ночь нежелательно?
Тот вяло кивнул.
— Так чего же вы сидите здесь?
Граф безотчетно вскочил, в недоумении уставясь на юную незнакомку, говорившую столь повелительно.
— Но я же… я не знаю, где…
— Погодите, — прервала его Маша. — Вы совсем промокли! Данила! Разбери-ка чемоданы свои и дай графу приличного платья!
Егор Петрович что-то залепетал, отнекиваясь, но Маша так убедительно доказала ему, что уже через час пребывания в холодной, мокрой одежде он свалится в жестокой лихорадке и не только поисков продолжать, но и вовсе миссии своей никогда выполнить не сможет, что граф послушно отправился переодеваться, тем более что Данила содержал себя всегда не только в чистоте и опрятности, но даже и в немалом щегольстве. Тем временем Маша велела кучеру оседлать трех лошадей из своей упряжки для верховой езды, а сама, весьма немилостиво ткнув под ребрышки не в меру заплакавшуюся Глашеньку, велела и свои вещи разобрать да подать ей амазонское платье. Переодевшись в два счета (скорее графа, который от горя своего несколько отупел и шевелился медленно), Маша вновь вышла в общую горницу и вместе с кучером и Данилою приступила к хозяину корчмы с придирчивыми вопросами об окрестных местах. Человек он оказался сметливый: едва только от страха, в какой вогнал его граф, оправился, мигом прикинул, что лужа, столь тонкая, чтобы в ней телега безнадежно увязнула, могла находиться только верстах в пяти восточнее корчмы. Ежели ехать к границе и на первом же повороте свернуть с проезжей дороги на лесную тропу — а она, уверял хозяин, для лошадиных копыт весьма удобная, — то не более чем через час удастся выехать на край той топи.
Появился переодетый в сухое Егор Петрович, в сухом плаще, и был удивлен до остолбенения, узрев уже вполне готовую в путь спасательную экспедицию. Его робкие, невразумительные возражения Маша отмела небрежным пожатием плеч и вскочила в седло по-мужски, благо широкая юбка вполне позволяла сие. Она и прежде не больно-то любила сидеть боком в ненадежном дамском седле и была весьма довольна, что в конюшне корчмы не сыскалось сего неудобного сооружения.
— Вперед! — скомандовала Маша и ринулась безоглядно во тьму и мокрядь с такой радостной готовностью, словно бы ей предстояла упоительнейшая скачка по залитому солнцем цветущему лугу.
Данила и кучер Васенька, ошеломленные столь внезапным преображением своей печальной барышни в отважную поленицу [76], беспрекословно ринулись следом, держа привязанные к шестам фонари и еще запас крепких ременных гужей, чтоб, ежель понадобиться, повозку вытянуть, и даже два топора — рубить деревья, ежели потребуется мостить гать. Впоследствии оказалось, что предусмотрительность сия оказалась весьма кстати, но до этого еще предстояла целая ночь блужданий и поисков.
Проехавши тем путем, которым посоветовал следовать корчмарь, добрались до какого-то обширного топкого места, и ободренный Комаровский начал изо всех сил кликать по имени своего кучера. Звали того Зигмунд, и очень скоро надсаженный голос Егора Петровича, беспрестанно выкликавшего имя сие во тьме, стал казаться усталой Маше сиплым кликом какой-то ночной бессонной птицы. Тщетно звал Комаровский — Зигмунд не давал ответа.
Проехали еще несколько верст по краю топи, ежеминутно сами рискуя угрязнуть, но успеха не достигли.
Егор Петрович утратил последнюю надежду. Конечно, положению его можно было лишь посочувствовать! С ним было отправлено на несколько сот тысяч рублей драгоценный вещей, и несчастное происшествие сие непременно должно было дойти до ушей императрицы. Это было первое его поручение, при неудаче коего карьера Комаровского неминуемо должна была прерваться. Что же говорить об утрате чести и доброго имени?!
Горе Егора Петровича было таково, что и Маша, и ее дворовые наперебой его уговаривали и просили быть спокойнее, уверяя, что поиски продолжат всю ночь и, по крайности, даже после рассвета, созвав для подмоги окрестных мужиков, хорошо знающих здешние места; особенно усердствовал с уговорами Данила, ну а Маша не сомневалась, что все окончится благополучно. Здесь, в темном сыром лесу, исхлестанная ветвями, продуваемая ветром, озябшая, невыспавшаяся, проголодавшаяся, она отчего-то была столь счастлива, что ей приходилось следить за собою, дабы не вырвался наружу тот ликующий смешок, который, чудилось, пронизывал все ее существо, заставляя дрожать мелкой, азартной дрожью, дрожью предчувствия удачи.

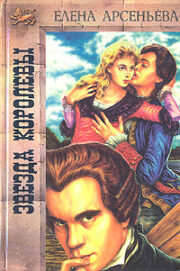
"Звезда королевы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Звезда королевы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Звезда королевы" друзьям в соцсетях.