Проще жить, когда образ твоего врага несложен, однако жизнь не обманешь, она любит ставить препятствия, а потому Мария почувствовала себя так, будто снова лежит под поваленным деревом, сброшенная с лошади на всем скаку, когда Николь, внезапно появившись в ее комнате, чуть не с порога заявила:
— Простите великодушно, votre excellence (тут Николь помедлила, дабы Мария успела прочувствовать издевку сего величанья), но я все забываю исполнить некое поручение, имеющее до вас непосредственное касательство. Еще с прошлого года… ах, забывчивость моя не имеет оправданий! — И она повинно склонила голову.
Мария опустила на колени недоплетенное кружево и недоверчиво взглянула на Николь.
После той достопамятной сцены на крыльце жена и любовница барона Корфа ни слова друг другу не сказали, иногда месяцами не виделись вовсе. И вот Николь стоит с видом смиренницы да еще изъясняется нарочито округлыми, любезными фразами… подозрительно!
Николь, потупясь, вытащила из-за спины скомканный батистовый платочек.
— Вот, баронесса… это ваше.
Мария опасливо взяла платочек, повертела в руках. Ее платочек, в самом деле: изысканно вышитые буквы М и К в вензеле баронской короны — Глашенька, великая мастерицам-вышивальщица, любила тешить такими вот пустячками свое самолюбие, оскорбленное за барыню, которой пренебрегал супруг-барон.
Таких платочков было у Марии с полсотни, так что один утерянный — не самая великая беда. — Ну и что? — нетерпеливо, словно ей не в меру недосуг, понукнула Мария.
— Я же говорю, — наивно хлопнула ресницами Николь, — позабыла я платочек вам передать, еще тогда-а оставленный в доме моей тетушки…
Крючок выпал из кружева и, скатившись по складкам пышного платья, стукнулся о паркет. И Мария, и Николь с равным вниманием проследили его путь и разом вздрогнули, ибо легкий этот звук показался неожиданно громким в наступившей тишине. Мария, пытаясь сообразить, что все это значит, подняла крючок…
Потом они обе враз вскинули головки, и взоры их скрестились: невинные агатовые глаза Николь таили усмешку, а Мария изо всех сил старалась, чтобы взгляд ее остался непроницаемым.
— А, мамаша Дезорде… — кивнула она со слабой улыбкою, и Николь чуть приподняла брови: наверное, не ожидала такого быстрого признания. — И что же?
— С этим платочком она передавала вам свой поклон, — продолжила Николь с той же беззаботностью.
— Благодарю, — кивнула Мария и вдруг, ловко подцепив крючком за краешек кружева на платочке, выдернула его из рук Николь, платочек упал, но Мария успела прижать его туфелькой:
— Не трудитесь поднимать. Невелика ценность! — Так ли? — вкрадчиво шепнула Николь.
И опять воцарилось молчание, потому что Марии стало наконец ясно, для чего затеян этот разговор.
— Да уж не думаю, чтобы твоя услуга опять дорого стоила. Ты же прекрасно знаешь: барону известно, где… потерян этот платок, скажем так. Мне от него нечего скрывать.
Николь улыбнулась словно бы даже ласково, как несмышленому ребенку:
— От него-то — да! А ему?
— Ему? — Мария чуть нахмурилась. — Что скрывать ему? Ну, даже если и есть что, так не лучше ли это с ним обсудить?
— Пока еще время не настало, — покачала головою Николь. — Конечно, барон стал теперь менее… добр ко мне, однако я надеюсь на вашу щедрость. Все-таки нехорошо будет, если в посольстве пойдут всякие разговоры… или в парижских салонах, где его светлость принят. Ведь кое-кому известно, что у господина Корфа не может быть детей… он этого никогда не скрывал… и вдруг пройдет слух, мол, баронесса…
Мария так резко подалась к Николь, что та отпрянула к двери и замерла на безопасном расстоянии, схватившись за ручку, готовая в любое мгновение ускользнуть. Впрочем, вспышка ярости тут же миновала, и Мария с усмешкою откинулась на спинку кресла, почти в восторге от созерцания такого бесстыдства.
— Милейшая особа эта мамаша Дезорде! Ее усилиями я чуть не отправилась на тот свет, однако ни я, ни барон — никто из нас и не подумал хоть как-то наказать ее за неумелое рукомесло.
— Вы боитесь огласки! — торжествующе воздела перст Николь. — Вот я и говорю…
— Не только нам следует бояться огласки, — задумчиво проговорила Мария, снова принимаясь за кружево. Она не смотрела на Николь, однако почувствовала, как та напряглась.
— Вы… про тетушку, что ли? — осторожно спросила бывшая горничная. — Она навеки покончила со своими позорными занятиями!
— Навеки? — переспросила Мария с той же патетикой в голосе, которая звучала в словах Николь, и та горячо подтвердила:
— Воистину так!
— А были ли эти занятия столь уж позорными? — спросила Мария. — Мамаша Дезорде выручила стольких женщин, попавших в беду!.. Наверняка многие вспоминают ее благодарным словом, и я в их числе. А… вы? — Она вскинула глаза, впилась в лицо Николь, с наслаждением выискивая на нем признаки страха и растерянности.
— Что… я? — запнулась Николь, и Мария не замедлила пояснить:
— Невелика хитрость сделать из беременной женщины бесплодную. По российским деревням тысячи бабок можно собрать, которые фору дадут вашей тетушке. Однако же я отродясь не слыхивала, чтобы хоть кто-то в мире, кроме мамаши Дезорде, изловчился сотворить из шлюхи девицу!
Мгновение Николь стояла с открытым ртом, и Мария не отказала себе в удовольствии звонко расхохотаться ей в лицо — в ее вытянувшееся, сразу поглупевшее лицо.
— Вы сказали… ему? — наконец выговорила Николь задыхаясь. Мария с сожалением покачала головой:
— Нет. Пока — нет. Но непременно скажу, если ты будешь болтать что попало и где попало.
— Он не поверит! — воскликнула Николь так уверенно, что Марии пришлось вцепиться в подлокотники кресла, чтобы не вцепиться в затейливо уложенные черные локоны.
— Поверит! — злобно бросила она. — Не мне, так мамаше Дезорде поверит!
Николь смотрела на нее, чуть откинув голову, как бы свысока, и столь довольная улыбка расплывалась по ее лицу, что Мария не поверила своим глазам. А Николь с торжеством тянула паузу, снисходительно озирая Марию с ног до головы, даже покачиваясь, даже словно бы пританцовывая, упиваясь собственным триумфом, смысл которого был пока непостижим для Марии… и вдруг некая вещая тень пронеслась по комнате — и Мария все поняла, обо всем догадалась, и это дало ей мгновение передышки, помогло совладать с собой и с выражением своего лица, когда Николь выплюнула роковые слова:
— Она уже никому ничего не скажет! Она умерла месяц назад!
Мария незаметно перевела дух. Она была вся напряжена, натянута до предела терпения, как струна. Она сама не знала, почему так нужно сохранить перед Николь невозмутимость, почему нельзя позволить себе ни мгновения слабости. Она никогда не считала себя особенной гордячкой, однако сейчас готова была отдать всю свою кровь по капле, только бы не поступиться ни единой капелькой гордости!
— Ого, — холодно проговорила Мария, делая вид, что поправляет косынку на груди, а на самом деле — унимая разошедшееся сердце, — значит, ты теперь богатая наследница?
— Ах, да какое там богатство! — отмахнулась Николь — видно было, что слова Марии задели ее за живое. — Ничего не скажу: тетушка была особа предусмотрительная, и, хоть кровной родней я ей не приходилась — я ведь ей по мужу племянница, — а по завещанию все мне отказала: и барахлишко, что в Париже оставалось, и кубышку, и домик в деревне… тот самый, где вы были, помните? — не отказала себе Николь в удовольствии вонзить очередную иголку в душу своей барыни и была немало раздосадована, когда та лишь небрежно кивнула. — Однако домишко оказался заложен-перезаложен, а барахлишка насилу наскреблось, чтоб заплатить за теткины похороны. Какое там наследство!..
Мария рассеянно кивнула. Что-то было в словах Николь… какая-то фраза, какой-то след, ведущий… куда? Нет, потом, сейчас не до того. Голос Николь пробивался словно сквозь вату. Слишком сильным оказалось для Марии потрясение… Ведь честь ее мужа — предмет его кичливой гордости и неустанных попечений! — в руках девки, которую он столь явно и цинично предпочел своей венчанной жене. Мария была бы вправе, затаив от нетерпения дыхание, злорадно предвкушать тот грохот, с которым вдребезги разобьется безупречная renommée ее надменного барона.
Что же с ней? Почему владеет ею сейчас лишь ненависть к этой неблагодарной твари, которая мечтает разрушить жизнь не сопернице своей — это было бы вполне понятно и объяснимо! — но благодетелю своему?
Мария задумчиво смотрела на Николь. Весьма привлекательная, изящно одетая ведьма, которая под маской наивности скрывает свою лживую сущность. Добродетель для нее была нелепостью, в пучине порока она чувствовала себя как рыба в воде — и на всех людей, думающих и живущих иначе, смотрела как на легкую добычу. Все замыслы француженки сделались ясны и отвратительно прозрачны, — Марии уже ничего не надо было объяснять. Светское общество — этакая лужа, по которой идут круги от самой малой щепочки, самого мало камушка, даже песчинки. Одно только слово, даже намек на то, что жена русского дипломатического агента избавилась от где-то нагулянного ребенка с помощью той же повитухи, которая пользует парижских девок, должен был больно ударить по репутации всей русской миссии. Вдобавок ко всему, Мария знала, что на днях в Париж прибыл новый, заменивший отъехавшего в Россию Барятинского, чрезвычайный посланник и полномочный министр, действительный тайный советник Иван Матвеевич Симолин — лицо в своих кругах известное и уважаемое как происхождением своим (его предки были родовитыми немецкими дворянами из Ревеля), так и заслугами: дипломатическая карьера вознесла его на высшие посты в посольствах в Копенгагене, Вене, Стокгольме, Лондоне — оттуда он и явился в Париж. Мария его еще не видела и о свойствах его натуры ничего не знала, однако же всем известно, что новая метла всегда чисто метет… не попался бы безвинно опороченный Корф под горячую руку! Каков беспощадный ни был он деспот, однако же Мария обязана ему своим честным именем, да и жизнью, если на то пошло: кто отыскал ее, насквозь промокшую, замерзшую, истекающую кровью в ночном лесу Фонтенбло? Кто привел умелого доктора, способного надежно сохранить ее тайну, кто не жалел денег на лечение и уход?..
Ну что ж, вот и приспела пора задать тот самый вопрос, ради которого появилась Николь в комнатах ненавистной баронессы!
— Сколько ты хочешь?
Николь смотрела оценивающе, задумчиво — можно подумать, нужная цифра уже не висела у нее на кончике языка, не была просчитана заранее! Актерка! Придется ей заплатить, делать нечего. Надо надеяться, что сумма окажется Марии по средствам. Тут она вспомнила, сколько заломила Николь в Санкт-Петербурге за свое залатанное девичество, и невольно поежилась. Ну, Бог поможет! По счетам от портных, обувщиков, галантерейщиков и прочих дамских искусителей безропотно платил барон, да Мария и не была безудержной мотовкою; так что у нее еще оставались почти нетронутыми (только на гонорар мамаше Дезорде — упокой, Господи, ее душу грешную! — пришлось израсходовать сто ливров — немаленькую сумму) деньги, данные ей «на булавки» отчимом, да фамильные строиловские драгоценности и матушкины подарки, по счастью не замеченные разбойниками. Уж как-нибудь, Бог даст, откупится она от Николь, однако неплохо бы и Корфу узнать, что его любовница шантажирует его жену.
И тут же Мария покачала головой, торжествующе улыбнулась, невольно приведя Николь в смятение.
Нет. Она, конечно, заплатит, но опять ни словом не обмолвится Корфу. Достаточно было у него поводов являть распутной жене свое благородство! Теперь ее черед. Она едва не расхохоталась от предвкушения своего торжества. Корфу вовек не узнать, что его драгоценная честь, в жертву которой хладнокровно принесена вся судьба Марии, жизнь двух ее зачатых во грехе детей, счастье и спокойствие ее обожаемой матушки, в конце концов, карьера доброго, милого, вовсе ни в чем не повинного Комаровского, будет куплена его отвергнутой, презираемой — опять же распутной! — женой за крутенькую сумму! Да, теперь у Марии в руках отменное оружие против барона. Изойдись она вся на раздумья о наилучшем способе отмщения, и то ей вовеки не додуматься ни до чего подобного! Много чего она чувствовала к своему мужу — от любви до ненависти, во всем многообразии промежуточных оттенков, — но самым упоительным из чувств оказалась жалость. Да, сейчас Марии было жаль его!
И, упиваясь ею, в восторге предвкушая свой изощренный, тайный триумф, она нетерпеливо повторила:
— Ну же, сколько?.. — И какое-то время еще улыбалась — даже после того, как услышала слова Николь, показавшиеся ей чем-то несообразным, неудачной шуткой.
— Пятьдесят тысяч ливров, — сказала француженка.
Мария бессильно откинулась на спинку кресла, уже не замечая откровенной насмешки и торжества Николь, наконец-то увидевшей ужас и растерянность этой русской гордячки.

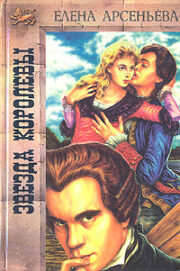
"Звезда королевы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Звезда королевы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Звезда королевы" друзьям в соцсетях.