Не остеречь ли Гизеллу? Но как? Непрошеный совет, говорят, хуже обиды…
Мария была слишком скромна и по-прежнему бесхитростна. Ей даже в голову не приходило, что де Лакло приходил из-за нее…
Посыльные вечером опять вернулись, не вручив писем. Дома, в России, Мария послала бы этих олухов в холодную, отведать плетей, а здесь — как быть? Все-таки чужие слуги; вдобавок в отношениях с этим сословием теперь приходилось соблюдать известную церемонность… Так и ушли бестолковые восвояси. А поразмыслив, Мария сняла с них вину: да ведь наверняка же они исполняли наказ графини, опасавшейся, что Мария вот-вот улизнет!
Ну, коли так… коли так, Гизелла слишком уж многое на себя берет — а напрасно! Это не дозволительно! Хватит Марии в самом деле пользоваться гостеприимством настырной венгерки — пора и честь знать. Завтра же съедет отсюда — хоть на постоялый двор!
Однако назавтра Гизелла совершенно ошеломила Марию.
— Чем более проходит времени, тем чаще замечаю я, что мой брат вам не по сердцу, дорогая Мария! — сказала она своей гостье.
— Я бы желала видеть его другом, а не возлюбленным. Таким же другом, каким сделались мне вы!
Гизелла улыбнулась:
— Он будет вам другом! Он все готов отдать для вашего счастья. А ведь вы несчастны, не правда ли?
Мария передернула плечами. Неужели это так явно?
— Брат не хотел этого видеть, но я решила открыть ему глаза: вы не будете счастливы с ним никогда… пока существует на свете барон Корф, ваш муж! Ведь так? Ведь так, не скрывайте!
— Что толку скрывать? Это правда.
— А если бы он погиб? Умер? — осторожно проговорила Гизелла — и тут же расхохоталась, замахала руками с притворным ужасом: Мария так и подалась к ней, гневно сверкая глазами. — Нет, нет, я не то хотела сказать! Храни Господь вашего барона! Но эта любовь вам глаза закрывает, весь мир заслоняет. Значит, нужно либо избавиться от него, либо покончить с вашими недоразумениями.
Мария снова передернула плечами. Если бы это было так просто — покончить с недоразумениями! Сейчас она ругательски ругала себя за то, что не сделала этого, когда появилась такая возможность. Со временем улеглась тяжкая обида, явление «тетушки» и примирение с нею Корфа перестало казаться оскорблением и предательством. Сильвестр, конечно, так никогда не поступил бы — так ведь оттого Мария и не любит его, Сильвестра-то, который жизнь свою и судьбу своей страны бросил к ножкам обожаемой женщины. Оттого и любит она до безумия Димитрия Корфа, для которого честь и долг — превыше любви, пусть она даже надрывает ему сердце.
Когда Мария снова взглянула на графиню, то и взор, и лик ее были ясны необычайно.
— Вы бесконечно правы, дорогая, — произнесла она с благодарной улыбкою. — Я уезжаю к мужу. Сегодня же! И буду просить его прощения, обещать… — У нее перехватило горло.
Гизелла поджала губы, покачала своей хорошенькой смоляной головкой.
— Счастье, что мой брат не слышит вас! Он был бы глубоко разочарован, услышав, что его богиня желает припасть к стопам мужлана, который столько лет пренебрегал ею.
— Я виновна пред мужем, — гордо вскинула голову Мария, — однако унижаться пред ним не намерена.
— И правильно! — горячо стиснула ее руки Гизелла. — И правильно! Здесь надо поступить умно и тонко. Вам следует встретиться как бы невзначай. Вот что, слушайте, я придумала! 27 апреля мой друг, маркиз д'Монжуа, дает бал в честь открытия Генеральных штатов. Он чуть-чуть демократ, один из друзей герцога Филиппа, однако гостей умеет принимать как никто. Насколько мне известно, — продолжала она с тонкой улыбкою, — судьба французской монархии и трещины, которые дает трон, весьма волнуют Россию. Симолин собирает сведения где может… Корф непременно придет на этот бал! Клянусь вам!
И Мария не удержалась — бросилась к Гизелле и расцеловала ее румяные душистые щеки. Снова счастье было близко, так близко! Уж теперь-то она его не упустит!
«Придет на бал» — очень точно сказано. Ибо лишь дамам, по снисходительности к их слабому естеству, а пуще того — для сбережения дорогих туалетов, — дозволялось прибыть в предместье Сен-Жермен, где находился особняк маркиза, в экипажах, — мужчинам же предписывалось непременно прийти пешком, «как все люди ходят», дабы таким обременительным для многих способом передвижения продемонстрировать свое единство с народом. Ходили слухи, будто на бал приглашен и Филипп Орлеанский, новое прозвище которого — Эгалите [212] — уже было на слуху, и, оправдывая его, он также отправится на бал пешком!
В ночь перед балом Мария улеглась в постель с тем же настроением, с каким юная дева смыкает очи в Крещенскую и Рождественскую ночь. Однако же эта ночь была самая обычная, не гадальная, а потому Марии не явился во сне Корф, отмыкающий замочек, или подающий ей воды напиться, или надевающий ей на палец кольцо — Мария вообще не видела во сне свою любовь, а снился ей почему-то Пьер Шодерло де Лакло, который с ужасным акцентом, перевирая слова, читал прекрасные и страшные стихи Державина:
Чей труп, как на распутье
мгла,
Лежит на темном ложе
ночи?..
Потом вдруг выкрикнул шутовски:
Где стол был яств,
там гроб стоит! —
и убежал куда-то, проворно семеня ногами и звеня подковками.
Мария проснулась. И почему-то не было в душе радостного предвкушения счастья — только страх. А вдруг Корф не придет? А вдруг придет… но не захочет примирения, отвернется от Марии? Тогда и впрямь останется одно — уезжать в Россию!..
День выдался тяжелый. Туалет, заказанный графиней Гизеллой для Марии, был прекрасен, как мечта, однако же того густо-лилового оттенка, который Мария всегда считала губительным для своей внешности. И впрямь — вид у нее в этом платье сделался трагически бледным, особенно в присутствий зелено-красно-белой Гизеллы. Но не отказываться же от любезности, не обижать же графиню еще и пренебрежением к ее вкусу…
Натерпелась Мария и с прической. Где ты, Данила? Где твои ловкие руки, твои проворные пальцы? Сегодня волосы Марии были подпалены щипцами, локоны закручены слишком туго, уложены слишком старательно — без той легкой, элегантной небрежности, которую вносил в свои творения Данила-волочес, Данила-художник. Парикмахер графини Гизеллы, надменный парижанин, судя по его виду, вполне мог прикрепить на творение свое табличку с надписью: «Я сделал все, что мог; кто может, пусть сделает лучше» — ибо был уверен, что превзойти его невозможно. Однако, глядя на свое лицо, приобретшее выражение застывшее и несколько даже испуганное, Мария не разорила сложное сооружение на голове лишь из боязни обидеть гостеприимную хозяйку. Однако же она втихомолку вытащила из прически три шпильки, отчего творение ее сделалось ниже и приняло более мягкие очертания. Мария очень надеялась, что тряска в карете довершит начатое и прическа обретет более свободную и живую форму.
Первым, кого увидела Мария, поднимаясь по лестнице и окидывая взглядом бальную залу, был Шодерло де Лакло, который тут же бросился к графине д'Армонти, не забыв поощрительно взглянуть на Марию. Желающим увидеть на балу герцога Орлеанского пришлось удовольствоваться вертлявой фигурою его секретаря, который был необычайно в ударе: его остроты слышались будто со всех сторон одновременно, он, чудилось, танцевал со всеми дамами враз, каждой успевал улыбнуться, шепнуть комплимент, для каждой — выразительно закатить глаза, прижать руку к сердцу, сделать страстную мину… Это было, впрочем, вполне кстати, ибо немалое время господин де Лакло оставался чуть ли не единственным мужчиной в сонмище раздосадованных дам: кавалеры безнадежно запаздывали, видимо не рассчитав время, необходимое для того, чтобы добраться к дому д'Монжуа столь непривычным образом. Верно, из-за их усталости и танцевали нынче вяло. Бал явно не задался, а уж когда два или три гостя явились со сбившимися париками и в перепачканной, даже изорванной кое-где одежде, в адрес хозяина и, разумеется, месье Эгалите, вдохновителя сей затеи, начали раздаваться весьма крепкие выражения: на улицах нынче было неспокойно. И — слово за слово — бальные разговоры стали мало напоминать то привычное светское злоречие, к которому все привыкли в последнее время; в разговорах проскальзывали нотки серьезного беспокойства.
— Горожане вооружаются — якобы для защиты от грабителей. Похоже, что в городе приходится по грабителю на каждого? Эти добропорядочные граждане шатаются по улицам и ревут: «Оружия! Оружия!»
— Говорят, голодные бедняки сжигают те городские заставы, где взимаются пошлины за ввоз продовольствия в Париж, и требуют хлеба.
— Я слышал, что разграбили Сен-Лазар! Какое святотатство: это ведь бывшая больница для бедных, а ныне — исправительный дом на попечительстве монахов. Там нет и намека на оружие, но есть продовольствие — его и выносят.
Более всего возмутило присутствующих известие, что долговая тюрьма Ла-Форс была взломана толпой, и преступники освобождены. Что-то странное, роковое нависло над Парижем, проникло и в эту роскошную залу…
Гостей оказалось меньше, чем рассчитывал хозяин: возможно, многие вернулись с полдороги. Не было никого и из русского посольства, Мария все глаза проглядела: не танцевала, бродила у лестницы, забыв о приличиях, об уроках гордости, которые преподавала ей Гизелла, — высматривала знакомую фигуру, чувствуя: как только появится Корф, она не раздумывая кинется ему на шею, возопит о своей любви, будет умолять о прощении…
Эта сцена так явственно вспыхивала и гасла в ее взбудораженном воображении, как всполохи огня на маяке — то озаряют все светом надежды, то погружают во тьму безнадежности. А Корфа все не было, не было… Появился Сильвестр — отвесил быстрый поклон, но не задержался ни на мгновение, лишь скользнул по лицу Марии каким-то испуганным, вороватым взглядом.
Это ее озадачило. Отошла от лестницы, глянула в простенок, украшенный большим зеркалом, — и от всей души порадовалась, что какие-то обстоятельства помешали барону явиться на бал.
Это пугало в лиловых тонах, с лицом цвета пармских фиалок, с разоренной клумбой на голове — это она.
— Милая моя, что с вами? — воскликнула графиня Гизелла, оказавшаяся рядом. — Вы ужасно выглядите!
«Не твоими ли молитвами?» — Мария с трудом удержалась, чтобы не съязвить, и выдавила из себя спасительную фразу:
— У меня вдруг голова разболелась.
— Выпейте вина! — приказала графиня, подав знак лакею. Почему-то им оказался не ливрейный хозяина, маркиза д'Монжуа, а собственный гайдук Гизеллы. У него на подносе стояли два бокала: один с шампанским, его проворно схватила Гизелла со словами: «Шампанское вам нельзя, голова еще сильнее разболится!»; другой был наполнен бургундским, Мария взяла его и выпила без всякого удовольствия. И вот тут-то у нее и впрямь разболелась голова, да так, что Мария со стоном схватилась за виски. Лицо Гизеллы приняло озабоченное выражение:
— Едем домой немедля! Он уже не придет, это понятно. Ничего, я что-нибудь еще придумаю. — И, подхватив Марию под руку, она повлекла ее к выходу, где гайдук уже выкликал карету графини д'Армонти.
Да, кажется, Париж постепенно переставал быть местом для приятных прогулок.
Дорогу бесцеремонно пересекали какие-то люди, словно бы не сомневались, что кучер предпочтет осадить карету, чем прикрикнуть на них; а ведь в былые времена еще и кнутом огрел бы… Откуда-то доносилась стрельба. Совсем недалеко от Сен-Жерменского предместья, на улице, где в ряд вытянулись лавки, что-то горело. Там вопила, неистовствовала толпа.
— Кого-то убивают… — прошептала графиня д'Армонти. — Не хотела бы я быть на месте несчастного, попавшего в логово тигра.
Мария едва слышала ее.
Гизелла высунулась в окно, что-то быстро сказала гайдуку. Тот соскочил с запяток и скрылся в проулке.
— Я послала его узнать, что там происходит, — пояснила она Марии, но та вряд ли поняла ее: разламывалась голова, нестерпимо хотелось спать.
Оказавшись наконец в спальне, она отослала горничную: противно было прикосновение чужих рук, — и стала сдирать с себя платье, да так поспешно и неосторожно, что оторвала оборку. И тут же принялась стаскивать с себя одежду, не заботясь о ее сохранности. Растрепала прическу, распустила волосы — стало легко, даже голову отпустило! — и прыгнула в постель. Да, забыла свет… приподнялась и дунула на свечу, в последний раз бросив злорадный взгляд на кучку лиловых лохмотьев на полу.
«Лиловый — цвет траура французских королей. Что за кошмарный цвет! То-то небось горюют, когда приходится его надевать! Я бы уж лучше носила черное!»
С этой мыслью она заснула, еще не зная, что отныне ей придется носить только черное: сегодня ночью она стала вдовой, ибо Димитрий Корф и оказался «тем несчастным», который попал-таки в «логово тигров»!

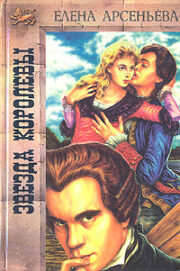
"Звезда королевы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Звезда королевы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Звезда королевы" друзьям в соцсетях.