— Твоя, что ль, телега во дворе? Ехать куда навострился? — грозно вопрошал первый мужик, в то время как второй без спроса ухватил со стола горшок, да молоко все оказалось уже выпито, и он, сплюнув, швырнул горшок на пол (разлетелись во все стороны осколки), потом схватил краюху и принялся громко жевать. Варвара всплеснула руками, но не сказала ни слова.
— А тебе что за дело? — разлепил наконец высохшие губы Силуян.
— Поговори у меня! — рявкнул первый мужик. — Куда ехать готовился, спрашиваю?
Хозяин молчал. Второй мужик от такой отчаянной Силуяновой дерзости даже перестал жевать и, отложив недоеденную краюху, потянул из ножен саблю. Варвара торопливо перекрестилась, а сестры стиснули Машины руки.
— Ты что, ума решился? — спросил первый мужик с некоторой даже растерянностью в голосе: верно, не знал, как быть со строптивым хозяином.
— Решишься тут! — мрачно усмехнулся Силуян. — Тебя не поймешь: то молчи, то говори. Семь пятниц на неделе!
— Ладно, — ухмыльнулся мужик. — Говори давай.
Силуян пожал плечами:
— Ну, моя телега. Ехать же к тетке мне нужно, в Караваево. Хворает тетка, просила наведать ее, да чтоб со всем моим семейством. Еще бочку новую пора ей свезти — давно обещался.
— Никуда не поедешь. Всем же велено быть в полдень на сходе — и не моги ослушаться!
— Так ведь тетка же… — неуверенно возразил Силуян.
Однако мужик вновь принял грозный вид.
— Не помрет твоя тетка. А ты за ослушание схлопочешь плетей от нашего атамана, не то и вовсе с головой простишься.
— Он и всегда человек суровый, а нынче — так и вовсе не в себе, — поддакнул второй мужик; он углядел другой горшок, на сей раз полный молока, выпил все залпом, а потому подобрел: — Лучше уж иди с нами, от греха подальше.
Силуян только руками развел. Потом обернулся к жене:
— Так и быть, я пойду с ними, а ты, Варя, гляди, тетку не обидь: поезжай к ней с дочками, да будьте там потише, не ерепеньтесь перед старухой, посматривайте, когда гроза пройдет…
Смысл его иносказаний был до того прозрачен, что Маша вся сжалась: вот сейчас набросятся на него с допросом! Его и впрямь перебили — первый мужик опять разъярился:
— Ох, договоришься ты у меня! Ох, добрешешься! Или оглох на старости лет? Я ж сказал: всех собрать до едина велено, стара и мала. Все ступайте на сход!
— И дочек брать?! — ужаснулась Варвара.
Пугачевец только раз посмотрел на нее — но так, что она, перекрестясь, умолкла. Маша же успела поймать мгновенные взгляды, которыми Силуян обменялся с дочерьми.
— Ну что же, пошли, девоньки, коли велено! — слабым голосом позвала Варвара. — Аринка, Полинка… Машенька… все пойдемте!
Девочки не отпускали рук гостьи: смышленые, вострые оказались дочки у Силуяна, все в отца с матерью! И их крепкие пожатия давали знать Маше: ее не выдадут, не дадут в обиду.
Ее встревожило — откуда у пугачевцев такое особенное внимание к Силуяновой семье, не заподозрили чего? Однако, сойдя со двора, она увидела, что чуть ли не из каждой избы пугачевцы гонят людей к месту схода; и лица у всех были столь озабоченные, даже испуганные, что никто как бы и не видел, что с Варварой да Силуяном идут три девочки вместо двух! И Маша подумала: а вдруг и впрямь все обойдется? Вдруг в толпе никто не заметит ее, а кончится сход — Силуян снова ее спрячет, увезет из села…
Она успокаивала себя как могла, но недобрые предчувствия теснили, теснили сердце… Маша уже знала: ей придется сейчас увидеть нечто страшное. Да вот что?.. И такая неизвестность была втрое страшнее.
Все это время, что они сидели на теплой пожухлой траве под забором, с краю окольной площади, ожидая, покуда мятежники соберут нужное им число зрителей для экзекуции над бывшими господами, князь говорил без умолку, словно душегубов и не видел. Он рассказывал смешные истории о своих соседях-помещиках, среди которых и впрямь немало было чудаков и оригиналов: один предавался несусветной, прямо-таки библейской скупости; другой, чудом спасшись от смерти, продал имение и на все деньги выстроил церковь, при которой служил теперь сторожем, третий любил пошалить: зашивал себя в медвежью шкуру и пугал прохожих-проезжих на большой дороге… И хотя все эти истории были с изрядной бородой, особенно рассказ о медведе-помещике, давно уж помершем, Елизавета делала вид, что слышит их впервые, у нее даже сводило челюсти от непрестанной, будто приклеенной улыбки.
Но вскоре ей стало не до улыбок: к пленникам направлялся Аристов.
— Эх, не знали мы своего счастья! — тяжко вздохнул князь. — В былые-то времена каждый жил в своем кругу, имел общение с людьми, равными себе по рождению, а не братался со встречным и поперечным. В иное время я мимо этого самояда [28] и пройти погнушался бы, а нынче разговаривать с ним принужден!
Лицо Аристова, только что сиявшее довольством, изменилось, как по дьявольскому мановению. Словно черная желчь ударила ему в голову и помутила разум, заставив броситься на князя с криком:
— Держите ему голову!
Два дюжих пугачевца повиновались беспрекословно, оттолкнув Елизавету и сдавив горло князя будто в тисках. Задыхаясь, он открыл рот; высунулся язык. Аристов схватил саблю — Елизавета закричала страшно…
Аристов, не замахиваясь, чиркнул лезвием возле самых губ князя и с брезгливым торжеством стряхнул на траву какой-то красный комок. Князь глухо стонал, захлебываясь кровью, и Елизавета, вглядевшись в его искаженное мукой лицо, поняла: Аристов отрезал ему язык за неосторожное слово! И тут же изверг подтвердил эту невозможную, страшную догадку:
— Пусть и остался ты злоустым, старый дурак, но злоязыким тебя уже никто не назовет!
Толпа волновалась, не видя толком, что делают с пленными, но чуя кровь и беду даже издали, как животные чуют пожар. На вопль Елизаветы отозвалось несколько женских и детских слезных кликов. Кто-то бросался наутек, да пугачевцы хватали беглых и снова заталкивали их в толпу.
Впрочем, Елизавета ничего толком не видела и не слышала, кроме князя, который выхаркивал кровавые пузыри, пытаясь что-то сказать, но мог исторгнуть только яростное мычание. Горели, горели ненавистью глаза его! Смахнув кровь с губ, он вскинул свою окровавленную руку и ткнул ею в Аристова, который со злорадной усмешкой склонился над ним, ткнул прямо в лоб — да так, что кровавый след от его пятерни запечатлелся на этом лбу, словно Каинова печать.
Новая волна злобы помутила разум Аристова.
— Держите его! — вновь закричал он, и Елизавета не успела охнуть, как сверкнула рядом сабля и обрушилась на плечо князя.
Страшный крик сотряс окрестности и отозвался, точно эхо, воплем толпы, и Елизавете на миг почудился в этом общем крике голос дочери, но все это, конечно, был бред, а явью был залитый кровью Михайла Иваныч, упавший на траву… Рядом нелепо, ненужно валялась его рука, отрубленная почти по плечо.
Аристов стоял, глубоко дыша, словно наслаждаясь сладким запахом крови; а глаза его сплошь затекли чернотой расплывшихся зрачков — глаза безумца! И Елизавета понимала: он не остановится, пока не замучает князя до смерти. Князя, любимого деда Алешки и Маши, отца Лисоньки. Отца Алексея!
Она вспомнила, что Аристов сулил предъявить князю зрелище ее терзаний и, обрадовавшись этому воспоминанию, как спасению, даже не дав себе мгновения поразмыслить, бросилась в ноги разбойнику.
Он отшатнулся было, но тут же искривил рот усмешкою: гордая барыня лежала пред ним во прахе, униженно моля:
— Помилосердствуй, ради Господа Бога! Пощади! Ты уже отомстил ему за злое слово и дерзкий поступок — прости ж его! Он старик. Оставь его, оставь! Позволь мне перевязать его!
Аристов молчал, покусывая губу. Глаза его померкли, взор сделался спокойнее: возбуждение утихало. Елизавета поняла, что он уже слышит ее слова, и вновь взмолилась:
— Он истечет кровью, если не перевязать его раны.
Аристов задумчиво кивнул, и Елизавета метнулась к старику. Не обращая ни малейшего внимания на столпившихся кругом мужиков, она задрала подол и, распустив завязки нижней юбки, стащила с себя льняное полотно. Надкусив шов, с трудом порвала крепкую ткань на полосы.
Из плеча князя все еще била кровь, торчали острые осколки кости, свисали клочья кожи и мышц. Подступившая тошнота заставила содрогнуться, однако Елизавета не отвернулась, а принялась стягивать плечо князя тугим жгутом, останавливая кровь, зажимая пальцами порванные сосуды… Наконец перевязка была закончена, и хотя кровь еще просачивалась сквозь всю толщину льняных накладок, Елизавета знала: кровь вот-вот остановится.
Князь лежал без сознания, и это было для него благо. Сейчас бы его унести в постель, приложить к плечу лед, дать лекарств, призвать хирурга, который зашил бы рану! А если удастся уговорить этого безумца? Может, он уже натешил кровью свою лютую душу?
Она с мольбою подняла глаза и наткнулась на взгляд Аристова — не злой, а как бы любопытствующий — вселяющий надежду?..
Слова не шли с языка — она с немой мольбою простерла к нему руки.
— Сколько у тебя таких юбчонок, красавица? — усмехнулся Аристов; и Елизавета безотчетливо улыбнулась в ответ, не понимая и не веря тому, что слышит:
— Что?..
— Юбчонок, говорю, сколько? Ежели все раны перевязывать станешь, какие я ему нанести намерен, так скоро останешься в чем мать родила!
Глаза Аристова похотливо блеснули, и Елизавета, словно защищаясь, скрестила руки на груди, но тут же опустила их, поднялась с колен, неотрывно глядя на Аристова:
— Если меня возьмешь, его отпустишь ли?
— Отойдите-ка, — небрежно мотнул Аристов головою, и пугачевцы неохотно попятились.
— Чтоб тебя разок взять, мне твоего согласия и не надобно, — проговорил Аристов, не отводя от нее взора, и Елизавета, к своему изумлению, увидела, как смягчаются его маленькие жестокие глаза. — Откроюсь: мы уходим из села, отступаем. Михельсоновы [29] части теснят! — И вскинул руку, гася искру надежды, вспыхнувшую в ее взгляде, добавил: — Однако я помилую сего старика и деревню жечь не стану, если ты сама пойдешь со мною — по своей воле и навсегда.
Елизавета жалобно заморгала. Что это он такое говорит? Как осмелился, паскудник? А дети? А муж возлюбленный!.. И тут же она едва не стукнула себя по лбу с досады. Да что угодно можно ему посулить — такая клятва недорого стоит в глазах Господа! Наобещать — даже проще, чем отдаться его похоти. Надобно увериться в безопасности князя — а там только ее и видел Аристов!
Глаза Елизаветы жарко блеснули, и от этого взгляда Аристов весь залоснился, заиграл, как новенький грош. Он робко потянулся взять ее за руку, и Елизавета внутренне скрепилась перед этим омерзительным прикосновением, как вдруг кто-то, тяжело топая, подбежал к ним и с маху так ударил Аристова по руке, что тот вскрикнул от боли. Повернулся взглянуть на обидчика — да так и застыл с открытым ртом!
Елизавета тоже обернулась, однако увидела не грозного великана, как можно было бы ожидать по виду перепуганного Аристова, а низенькую, но дородную бабу — про таких говорят: «Поперек себя шире» — с грубо нарумяненным, несвежим лицом и косо сидящей на голове кичкою [30]. При этом она была одета как девка: в сарафан, туго перехваченный под дебелой грудью, и рубаху, ворот которой врезался в жирную шею.
— Ах ты, змеиный выползень! — взревела молодка. — Очно только и знаешь, что мне подол задирать, а заочию другую обсусолить норовишь?!
Наверное, это и есть та самая Акулька, которая привела Аристова в Ново-Измайловку, догадалась Елизавета. Бог ты мой! И перед гневом такого чучела сникает, даже как бы уменьшается Аристов, — словно проколотый рыбий пузырь!
Елизавета брезгливо передернула плечами и, отвернувшись, склонилась над все еще беспамятным князем. Она едва успела коснуться его лба, покрытого тяжелой испариной, когда сильный рывок заставил ее выпрямиться.
— Охти мне! А эту версту коломенскую ты где откопал? — пренебрежительно озирая Елизавету, которая и впрямь была гораздо выше ее ростом, пропела Акулька.
И Аристов, стоя пред нею чуть ли не навытяжку, отрапортовал:
— Это же дочерь князева, я ее вместе с отцом…
— Погоди-ка! — перебила Акулька, изумленно глядя на Елизавету. — Погоди, голубок!
Маленькие ее глазки, наливаясь злобным торжеством, чудилось, выползали из-под набрякших век.
— Князева дочка, говоришь? Лизавета Михайловна, княгиня Рязанова? Да где там! Не она это!
— Ну как же, как же? — закудахтал Аристов. — Я ее в барском доме пленил. Говорит, мол, все утекли, а она по нездоровью, мол, после родин…
— Умолкни! — рявкнула Акулька.
Аристов умолк, словно подавился.

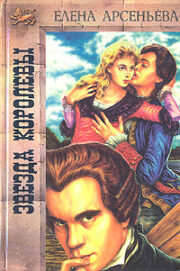
"Звезда королевы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Звезда королевы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Звезда королевы" друзьям в соцсетях.