3
Кики и Анджела были отправлены в пансионат в Массачусетсе под своей фамилией Девлин. Когда Эдвард впервые захотел с ними серьезно поговорить и изложил им свой план — удочерить их и дать свою фамилию, Анджела разразилась слезами, а Кики пришла в бешенство. Тогда Мари отвела Кики в сторону и, рассчитывая на ее ум, не свойственный детям в таком возрасте, объяснила ей, что если она хочет иметь в жизни все хорошее, то должна научиться слушать свою маму и понять, с какой стороны на хлеб намазывают масло. Поскольку ее собственный отец бросил ее, а Эдвард Уиттир собирается относиться к ней как к своей собственной дочери, ей лучше быть Уиттир, чем Девлин.
— Ты понимаешь, что я тебе говорю, Кики? — спросила Мари.
— Да, — ответила Кики. Она поняла, что, хотя отчаянно хочет сохранить отцовскую фамилию — это было все, что сейчас от него осталось, — будет лучше поступить так, как хочет ее мама. Ее отец пропал, а мама — здесь, и только она осталась у нее.
— А затем ты должна будешь помочь и Анджеле понять это.
После этого Кики подошла к Анджелике и сказала ей:
— В наших сердцах мы по-прежнему останемся Девлин — дочерьми нашего папы. Но все деньги у Эдварда, а у папы, я думаю, их вовсе нет. Как мы сможем куда-нибудь уехать, если у нас не будет никаких денег?
— Но я хочу моего папу! Я не хочу думать об этих дурацких деньгах! Зачем нам нужны эти деньги?
— Потому что без денег мы не сможем получить никаких удовольствий и делать то, что хотим. Для всего этого нужны деньги, много денег. Разве ты этого не понимаешь? Ты Можешь говорить Эдварду: «Да, сэр! Да, сэр!» — а про себя думать: «Пошел к черту!» Вот так мы должны себя вести.
Но Анджеле было трудно понять логику в словах сестры. Она продолжала плакать и кричать, что хочет остаться Девлин. Она не желает, чтобы ее отцом был Эдвард. Она хочет своего собственного отца. Мари старалась не обращать внимания на крики Анджелы. Откуда маленькой девочке знать, что для нее хорошо? Но Эдвард заявил, что пусть девочки пока остаются Девлин. Он полагал неразумным восстанавливать против себя Анджелу в самом начале их отношений.
Кики была довольна. Она сохранит фамилию своего отца, но при этом получается, что не она, а Анджела не уступила матери и расстроила ее. Но когда Мари начала утешать все еще рыдающую Анджелу, Кики поджала губы. «Почему-то Анджела всегда выигрывает», — подумала она.
Однажды Мари сказала девочкам, что они должны обязательно посещать протестантские службы в школе. Анджела кинулась в свою комнату с плачем, что никогда, никогда не станет этого делать, что она католичка. Кики в этот раз не нужно было уговаривать. Ее мама была протестанткой, значит, она тоже должна быть протестанткой. В конце концов, что с ней станется? Она вообще не любила ходить ни в какую церковь.
— Я буду протестанткой, а Анджела как хочет, — ответила Кики матери. — Я должна остаться Девлин из-за нее, но не собираюсь оставаться католичкой.
Мари не обратила на нее никакого внимания.
— Анджела иногда изумляет меня, — сказала она Эдварду, — такая упрямая…
«Наверное, это ее способ держаться за прошлое. Держаться за католицизм — это ее попытка удержаться за Рори…» — думала Мари.
Кики вздохнула: «Ей на все наплевать, кроме Анджелы. Она на меня вообще внимания не обращает».
— Так в чем же дело? — спросил Эдвард. — Пусть Анджела будет католичкой. А Кики, если хочет, станет протестанткой. Я знаю несколько семей, где члены исповедуют разные религии. Поскольку все они христиане, я думаю, не следует придавать этому слишком большое значение.
Мари подумала, а затем обернулась к Кики:
— Почему бы тебе не пойти и не взглянуть, как там твоя сестра. Посмотри, она еще плачет?
И Кики помчалась к лестнице.
В течение нескольких минут она с негодованием наблюдала, как Анджела, стоя на коленях и плача, истово молилась, перебирая четки. Потом, смахнув несколько слезинок со своих щек, Кики наклонилась к коленопреклоненной фигурке сестры.
— Знаешь, для восьми лет ты удивительно тупа. Разве ты не знаешь, что быть протестанткой гораздо легче, чем католичкой? Протестантам почти ничего не надо делать, только ходить в церковь по воскресеньям, и совсем не нужно ходить на исповедь.
Поскольку Анджела продолжала хныкать, Кики обняла ее и вздохнула. Анджела не виновата, что мама любит ее больше. Это потому, что она еще такой ребенок.
— Не плачь, Анджела. Все будет в порядке, вот увидишь.
В «Чалмерсе» девятилетняя Кики училась классом старше своей сестры, но по настоянию Мари их поселили в одной комнате. Она считала, что лишенные отца девочки нуждаются друг в друге. Кики легко приспособилась к новой обстановке, но Анджела каждую ночь по-прежнему плакала. А утром рассказывала Кики, что во сне видела папу.
— Сон не вернет его обратно. Но если ты обещаешь ничего не говорить маме, я скажу тебе секрет.
Анджела задумалась. Она не любила иметь секреты от матери, потому что если мама это узнает, то будет сердиться. Но в конце концов пообещала.
— Хорошо. Секрет в том, что наш папа кинозвезда!
— Ой, Кики! В самом деле?
— Это правда, умереть мне на этом месте! Когда мы здесь совсем обживемся, то нам разрешат ходить в кино. Это значит, что мы сможем отправиться в город и в субботу после полудня сходить в кинотеатр. И тогда мы сможем увидеть его в настоящем кино!
— Кики! Мне даже не верится!
— И знаешь что еще? Я об этом все время думаю. Когда мы вырастем, то отправимся в Голливуд и, может быть, станем, жить вместе с папой и тоже станем кинозвездами!
— Тогда сегодня вечером я буду молиться об этом. Чтобы мы скорее выросли, поехали в Голливуд, жили там с папой и стали кинозвездами — как он!
4
После благополучного прибытия девочек в школу Мари могла сосредоточиться на важных делах. Она должна была полностью все изменить в городском доме, после чего она хотела заняться поместьем в Стонингеме, а там наступит черед и дома в Саутгемптоне. Ей также хотелось обновить свой гардероб; у нее до сих пор имелась лишь одна шуба, купленная дядей Полем, в то время как ее кузины имели, по крайней мере, по пять шуб каждая. Кузины советовали ей начать подбирать коллекцию драгоценностей. У нее уже была основа — ей не потребовалось продавать драгоценности, которые она взяла у матери, кроме того, у нее было обручальное кольцо с бриллиантом, подаренное Эдвардом, и еще несколько подарков от семьи Уиттир. Кузины заверили ее, что Эдвард, без сомнения, будет добавлять что-нибудь к дням рождения и годовщинам, но будет неплохо, если и она сама время от времени будет покупать хорошие вещи.
— В конце концов, если дело дойдет до развода, то твое и останется твоим и не будет рассматриваться как часть совместного имущества, — заметила одна из кузин.
— И ты можешь начать прямо сейчас, пока муженек еще горяченький и не станет морщиться от того, сколько денег ты тратишь. Потом-то они все меняются, — советовала другая кузина.
Еще один маленький совет состоял в том, что надо быстренько заиметь ребенка до того, как брак остыл; такая возможность, в конце концов, никогда не исключается.
Мари заартачилась:
— Для чего мне нужен еще один ребенок? Слава Богу, я больше не католичка!
Но кузины убеждали:
— Тебе нужен наследник Уиттира, особенно сейчас, когда Эдвард еще не удочерил твоих дочерей. Это укрепит твое положение. Никто не сможет покушаться на твои права, если дело дойдет до развода или Эдвард скоропостижно скончается. Микки и Фликки попытаются вытолкнуть тебя, но если будет маленький Уиттир, особенно мальчик… Тогда…
Даже страшась новой беременности, Мари вынуждена была согласиться с их доводами.
— Но я оставалась в постели все время, пока носила девочек. И еще послеродовая меланхолия, которая затянулась на десять лет!
В дни, проведенные в Стонингем-Мэнор, Мари наконец склонилась к тому, чтобы родить Уиттиру наследника. Последовавшая вслед за ее новоорлеанским затворничеством жизнь в Нью-Йорке была такой интересной, что время мчалось незаметно. Хождения по магазинам, обеды, вечеринки, балы, рестораны не притупили ее острого желания иметь свой собственный дом. Нью-йоркский городской дом не давал ощущения покоя. Для этого требовались земли, холмистые лужайки, рощи, сады — то, что существовало за сотни лет до тебя и останется неизменным еще сотни лет. Обладание этим символизировало достоинство, рождало чувство гордости. Она никогда не испытывала таких чувств к дому во Вье-Карре, он был только лишь домом maman. Точно так же «Розовая плантация» была только имением Джулиана, хотя принадлежала семье ее отца целую вечность.
Но в Стонингем-Мэнор она чувствовала себя так, словно приехала к себе домой. Это был скорее замок, чем дом — сводчатые потолки, свинцовые рамы и прочая готическая экстравагантность. Такой дом делал его хозяйку королевой. Она проводила дни, бродя по комнатам, трогая обшитые панелями стены, проводила рукой по столам в бильярдной, подолгу сидела в оранжерее среди растений — из нее открывался поразительный вид на Гудзон; разглядывала художественную галерею с работами голландских мастеров.
В доме она обнаружила много исторических вещей — обюссоновский ковер, заказанный злосчастной императрицей Мексики Карлоттой, так никогда ей и не доставленный; императорский фарфор, супницы севрского фарфора, мраморный камин, отделанный позолоченной бронзой и вывезенный из какого-то французского замка. Были здесь и фрески на охотничьи темы, изготовленные в 1775 году. Ей не надоедало подолгу рассматривать каждую статуэтку, каждый гобелен. Она посидела в каждом кресле — от времен Людовика XVI, заказанного другой Марией, глупенькой, безрассудной, потерявшей свою голову на гильотине, — до кресла королевы Анны в библиотеке.
Мари часами прогуливалась по правильно разбитым французским аллеям, мечтала в японских садиках, расположенных на другом уровне, любовалась миниатюрным водопадом, впадавшим в небольшое озеро, гладила лошадей в стойлах и ездила верхом по залитым солнцем тропам. Она даже играла сама с собой в гольф, тихо напевая почти забытые французские колыбельные.
Мари Уиттир была влюблена. Всякое желание жить светской жизнью в Нью-Йорке испарилось — она бы только отрывала ее от этой земли, от этого дома. Мари осознала, что кузины были правы. Если она хочет, чтобы Стонингем был по-настоящему, безоговорочно ее, она должна дать жизнь сыну — Эдварду Тейлору Уиттиру IV.
5
После двух выкидышей и очередного утомительного и долгого пребывания в постели Мари, как и хотела, родила сына. В это время Америка находилась в состоянии войны, миллионы людей во всех уголках света были обречены на гибель. Дочери Эдварда — Микки и Фликки — унаследуют половину состояния своего отца, но никому не удастся отнять у нее Стонингем-Мэнор.
Эдвард не был слишком удивлен тем обстоятельством, что его жена больше не сможет сексуально быть полностью пригодной. Доктор категорически запретил ей еще иметь детей, и Мари все больше и больше отдалялась от него. Ему иногда даже казалось, что между ними вовсе и не было никогда интимной близости. Или все это ему померещилось? Она была прекрасна, как всегда, но неужели у нее и раньше был такой отрешенный взгляд? Он едва мог поверить, что это та самая женщина, которая смело ласкала его тело в первую же ночь их супружеской жизни.
Он старался по-философски относиться к этому. Она была матерью его сына, идеальной хозяйкой, элегантной красавицей, безупречной управительницей его поместья. Бесполезно и наивно — жаловаться на судьбу и ждать от жизни совершенства.
После рождения сына Мари получила поздравительное письмо из Нового Орлеана. Очевидно, так или иначе до Джулиана доходили вести о ней, подумала Мари после того, как быстро пробежала глазами письмо. А затем, с неожиданными угрызениями совести, она прочитала, что ее брат вынужден был расстаться с «Розовой плантацией». Жалуясь, он сообщал, как отчаянно сражался, чтобы сохранить это место для всей семьи. Мари поняла, что как опекун матери он вложил не только свои собственные, но и ее средства в попытки сохранить имение. Ничего не поделаешь — оно ушло в чужие руки. Он, Одри и дети переселились в дом во Вье-Карре. Во всем же прочем Джулиан рад, что находится вблизи матери в такое время, когда она особенно в нем нуждается.
«Ах, Джулиан! Какой же ты милый! Нет худа без добра. Зато ты можешь быть рядом с maman. Ты лицемер!»

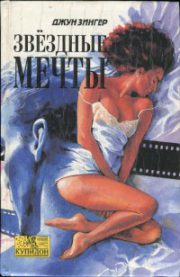
"Звездные мечты" отзывы
Отзывы читателей о книге "Звездные мечты". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Звездные мечты" друзьям в соцсетях.