А тогда я ужасно испугалась, что меня отсылают в Стокгольм, — как, за что, почему, этого я не понимала. Но отцовское решение приняла беспрекословно. «Ты едешь ненадолго, вот увидишь, тебе понравится», — утешала меня Анна, наша работница, которой и поручили доставить меня к деду. Так я пустилась в путь к дальнейшему одиночеству.
На стокгольмском вокзале нас встречал дед — одинокая фигура высилась на платформе и напугала меня еще сильнее. Не снимая перчатки, дед сунул Анне десятикроновую купюру, и девушка поспешно засеменила на противоположную платформу — в обратную дорогу. Дед даже не наклонился ко мне и смотрел на меня с высоты своего роста. И мне казалось, что в тот миг в мире только и остались что он да я, а больше ни единой живой души вокруг. Я рассматривала его вытянутое лицо, иней на бороде и усах, но дед молчал, и даже глаза его ничего мне не говорили. Все так же молча он взял мой саквояж и повел меня за собой по платформе в стеклянном свете зимнего дня.
Дед жил на Дроттниггатан[8], и туда мы так и дошли в полнейшем молчании. Я впервые увидела высокие каменные дома, трамваи, уличные фонари, мощеные улицы — все это было мне в диковинку. Но дед даже ничего не объяснял и не показывал, лишь молча шагал впереди, и я еле поспевала за ним. Он был высоченный, длинное черное пальто развевалось и хлопало, как флаг на ветру. Я запыхалась и все убыстряла шаг, почти бежала, хватая ртом ледяной воздух.
В доме у деда имелся лифт, и когда дед захлопнул тяжелую дверь кабины, я очутилась наедине с ним в тесноте — и заплакала. Лифт, поскрипывая и скрежеща, полз вверх. Дед до меня даже не дотронулся, но, когда кабина остановилась и мы вышли на лестничную площадку, он молча протянул мне носовой платок с монограммой.
Дедова квартира оказалась просторной, с высокими потолками и темными извилистыми коридорами, которые вели в скупо освещенные комнаты. Снаружи до меня все еще доносился непривычный уличный шум — городской шум. В прихожей нас встретила полная женщина в переднике, она сначала взяла у деда шляпу и пальто и лишь потом занялась мной. Она присела на корточки, так что лица наши оказались вровень. Расстегнула мне пальто, развязала ленты на моей шляпке.
— Значит, ты и есть маленькая Астрид, — сказала она, рассматривая меня сквозь очки. Из-за толстых стекол ее голубые глаза казались огромными. Она легонько и нестрашно взяла меня за подбородок. Пахло от нее мылом.
— Меня зовут госпожа Асп. Пойдем, покажу твою комнату.
Она повела меня за собой, а сама несла мой саквояж. Я пошла следом. Передо мной колыхались под черным платьем спина и зад, будто ходила ходуном черная гладь воды. И покачивались завязки передника. Волнистые седые волосы госпожа Асп носила свободным узлом на затылке. Она, наверно, совсем старая, такая же старая, как дедушка, подумала я.
Не знаю, как долго пробыла я в Стокгольме — теперь и не припомнить. Полтора месяца или два? В первый вечер я долго не могла уснуть, лежала и рассматривала отсветы уличных огней на потолке. Согреться не получалось, накрахмаленные простыни леденили, темно-красное одеяло давило на меня своей тяжестью. Из соседней комнаты приглушенно доносилась музыка. Никто даже не подумал утешить и приласкать меня — ни дед, ни экономка. Никто не объяснил, отчего и зачем меня привезли и когда отпустят домой. А вдруг отец отдал меня деду на веки вечные?
Деда я почти не видела; меня полностью предоставили самой себе, и я целыми днями бродила по натертым скрипучим паркетам этой просторной квартиры, заложив руки за спину. Десятилетней девочке нужно было научиться как-то жить в этом зыбком сумеречном мире без начала и конца, в одиночестве.
Большую часть времени у меня занимали библиотека и пианино. Дедова библиотека пахла сухой бумагой и тишиной; за стеклянными дверцами книжных шкафов вдоль стен рядами теснились книги. Целые полки отведены были книгам с непонятными заглавиями или неведомыми письменами на корешках. Шкафы запирались на ключ, поэтому порыться на полках я все равно не могла, но на столе у окна и на маленьком столике рядом с креслом всегда обнаруживалось вдоволь книг, порой даже раскрытых. Я садилась на краешек стула или кресла и медленно листала страницы, и непременно закладывала пальцем то место, на котором книга была раскрыта дедом.
Со стола и стен на меня глядели фотографии в рамках — по большей части то были портреты моих мамы и бабушки. Самый большой мамин портрет, в серебряной рамке, стоял посреди дедова письменного стола. Она глядела в объектив вполоборота, через плечо, и улыбалась мне. Волосы ее струились по спине и плечам, лишь на затылке подобранные заколкой. Какой же счастливой она казалась на этом портрете! Я брала тяжелую рамку и близко-близко подносила к лицу, едва не утыкаясь носом в стекло, — и всматривалась в мамины глаза.
Прочие мамины фотографии были поменьше. Вон она верхом на лошади. Вот — с охапкой цветов, в квадратной академической шапочке. Вот — перед мольбертом, с кистью и палитрой, в свободной блузе художника. Рука об руку с родителями, и все трое улыбаются из-под широкополых шляп. Но ни одной фотографии со мной или с моим отцом я не нашла.
Пианино стояло в гостиной. Госпожа Асп тщательно протирала его от пыли и полировала, но, сколько мне помнится, на нем ни разу никто не играл. Я подкрадывалась к пианино, садилась на табурет и тихонько выстукивала по крышке выдуманные песенки. Как-то раз отвлеклась от этого занятия и увидела, что в дверях гостиной стоит дед и пристально наблюдает за мной. Я замерла, но он молча развернулся и ушел.
Иногда госпожа Асп брала меня с собой за покупками. Мы ходили на рынок к мяснику или в рыбный ряд.
— Хорошо бы купить ветчины, — вздохнула как-то экономка. — Какой уж гороховый суп без ветчины, так, одно название…
— А почему нам не купить ветчины? — удивилась я.
— Э-э… да вот никак. — Помедлив, она добавила: — Твой дед ни за что не дозволяет.
Однажды мы сели в трамвай и поехали в Старый город и к королевскому дворцу, посмотреть на торжественную смену гвардейского караула. Стоял мороз, поэтому, когда мы вернулись домой, госпожа Асп посадила меня ногами в тазик с горячей водой, а сама тем временем сварила мне горячий шоколад. По субботам у экономки был выходной, и суббот я боялась: в пятницу госпожа Асп варила суп на завтра и ставила его в кладовке. В субботу с утра дед уходил и оставлял меня одну. Я и так-то почти все время сидела взаперти в дедовой квартире, но по субботам одиночество ощущалось особенно остро. Отец ни разу не поинтересовался, как я поживаю, не прислал весточки, и постепенно я стала забывать деревню и наш дом.
Как-то раз я собиралась спать и случайно услышала голоса деда и госпожи Асп в прихожей.
— Нехорошо, что она целыми днями сидит тут одна-одинешенька, — говорила госпожа Асп. — Девочка-то хорошая, послушная… Нет, не годится ей одной сидеть.
После некоторого молчания дед ответил:
— Я не просил ее сюда привозить. Она вылитый отец, мне тяжело ее видеть.
— Она всего-навсего дитя малое, и к тому же ваша внучка, — урезонила его госпожа Асп.
Что ответил дед, я не разобрала, услышала лишь, как захлопнулась дверь в его кабинет.
В день, когда меня повезли обратно, лил дождь. Госпожа Асп проводила меня на вокзал. За какие-нибудь сутки наступила оттепель, и теперь с крыш и карнизов с грохотом рушились сосульки и лед. Повсюду белели объявления, призывавшие пешеходов к осторожности, а местами тротуары были огорожены, так что приходилось шлепать по мостовой, прямо по бурливым ручейкам талой воды. На вокзале госпожа Асп зашла со мной в вагон и уложила мой саквояж на багажную полку. Потом крепко обняла и расцеловала меня. Ее твердые холодные очки уперлись мне в щеку.
— До свидания, милочка. Ты не думай, будто дедушка тебя не любит. Ни в коем случае такого не думай. Он просто… — Она осеклась, покопалась в хозяйственной сумке и вытащила бумажный кулек. — Вот тебе гостинцев в дорогу.
Она погладила меня холодной рукой по щеке, натянула перчатку и вышла из вагона. На прощание помахала мне и пошла прочь, а я смотрела ей вслед, пока она не скрылась в толпе.
Потом, вернувшись домой, я не раз спрашивала себя, а не приснилось ли мне все это — Стокгольм, дедова квартира, госпожа Асп? У меня ничего не осталось на память о них, ездила я одна, не с кем было и поделиться этими воспоминаниями. Здесь, дома, в деревне, я погляделась в зеркало и удивилась, что во мне ничего не изменилось. Я была прежней — и дом с деревней тоже. Я вновь очутилась на своем привычном месте.
С тех пор я ни разу не покидала деревню. Может, в это верится с трудом, но я даже в Борлёнг и то не выезжала, и в Фалун, и в Лександ тоже. Я понятия не имею, что за мир лежит за лесами и горами. И куда течет наша река.
Глава 8
Поди, присядь ко мне, печалью поделюсь,
секретами своими будем мы меняться[9].
Вероника осторожно поставила чашку на стол — тонкий фарфор внезапно показался ей особенно хрупким. Да и Астрид держала свою чашечку двумя руками, точно защищала.
— Позвольте, я покажу вам остальной дом, — предложила старуха, встала и поманила Веронику за собой. Из просторной кухни они вышли в прихожую. Астрид кивнула через плечо.
— Живу-то я там, в кухне и задней комнатке, — пояснила она. — А в гостиной даже не топлю и наверх почитай и не подымаюсь. Гостиная там. — Она указала на запертую дверь в конце коридора.
На второй этаж вела широкая лестница полукругом. На первой ступеньке Астрид задержалась и указала на еще одну закрытую дверь.
— Тут у отца был кабинет, а я теперь устроила кладовку.
На втором этаже дверей было пять. С широкой площадки второго этажа из больших окон виднелся из одного дом Вероники, а из другого — склон холма и дорога в деревню. Добрую часть лестничной площадки загромождал старый ткацкий станок; у правого окна — пара плетеных стульев и столик. Но первое, что бросалось в глаза, — это пестрые домотканые половики, устилавшие пол. Один, скатанный, был отодвинут под самый край крыши.
— Когда отец умер, я изрезала всю его одежду на лоскутья и принялась ткать половики, — призналась Астрид. — А когда мужа увезли в дом престарелых, взялась вот за этот. — Астрид повозила ногой по одному из половиков. — Мне приятно по ним ходить, приятно наступать на них.
Взяв Веронику за руку, хозяйка распахнула одну из дверей.
— Это когда-то была моя комната.
Полутьма, застоявшийся воздух, опущенные шторы.
— А потом, когда я вышла замуж, отец устроил тут себе спальню. Здесь он и умер.
Астрид метнула взгляд на узкую кровать, застеленную белым вышитым покрывалом.
— Я обнаружила его уже мертвым. С открытыми глазами. Я опустила ему веки и закрыла лицо простыней.
Астрид захлопнула дверь, а соседнюю и отпирать не стала, просто пояснила:
— Тут была вторая спальня. Наверно, для гостей, хотя гостей у нас сроду не бывало. А вот тут ванная.
Они пересекли лестничную площадку, и Астрид остановилась, словно не решаясь надавить на дверную ручку.
— Вот там, дальше, просто маленькая спаленка. Я… — Она осеклась, не договорила и лишь кивнула на крайнюю дверь. — А тут большая хозяйская спальня.
Дверь распахнулась. Глазам Вероники предстала комната, заставленная потемневшей старинной мебелью. Широкая двуспальная кровать, письменный столик, стул, массивный гардероб. Воздух здесь был прохладный и ничем не пахнул. Точно в музее, подумала Вероника. Выставка, посвященная далекому прошлому.
— Раз в неделю я проветриваю комнаты, но в остальное время сюда не хожу, — сказала Астрид. Она прошла к окну, распахнула двери на балкон, который тянулся вдоль всего второго этажа. Они с Вероникой облокотились на перила. Внизу, в саду, тянули вверх корявые ветви яблони. Дальше расстилались поля, еще покрытые прошлогодней жухлой травой, а за ними виднелась деревня и на горизонте — холмы. Воздух был холоден и промозгл, и из долины поднимался легкий туман — будто наползала, колыхаясь, прозрачная серая дымка.
— Отсюда прекрасный вид, знаю. Но, представьте, он никогда не доставлял мне ни малейшей радости. — С этими словами Астрид вернулась в дом и, дождавшись Вероники, заперла балкон.
Позже, по дороге к себе домой, Вероника глубоко вдыхала холодный воздух. Весенняя трава только-только начала проклевываться, а почки на березах распустятся недели через две, не раньше, и все же в воздухе пахло зеленью и весной. Дни становились все длиннее, вечера — все светлее.
Оставалась неделя до Троицына дня. За утренним кофе Вероника написала пригласительную записку и опустила ее в почтовый ящик Астрид. Потом она спохватилась: да ведь старуха навряд ли проверяет почту! Вероника решила подождать денек-другой. В последнее время она часто видела Астрид: та копалась в крошечном садике по южную сторону дома — вскапывала землю, возилась с семенами. Вероника соседку не тревожила, просто жила своей обычной жизнью — с утра ходила гулять, а потом до самого вечера писала, засиживаясь допоздна, поскольку вечера делались все светлее.

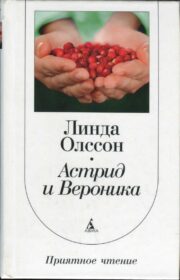
"Астрид и Вероника" отзывы
Отзывы читателей о книге "Астрид и Вероника". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Астрид и Вероника" друзьям в соцсетях.