В Уэллесли Беверли жила в Башне, девушка в Восточной Башне, которая влюбилась в парня с верхних этажей Бек Холла. Через несколько лет, рожая дочь, когда Беверли корчилась и стонала в госпитале Минеоды, по некоторым причинам (без всяких причин, по любой причине) она сообразила в промежутках между схватками, что полюбила и вышла замуж за Питера Беннета Нортропа III из Бруклина, штат Массачусетс, точно так же, как француженка, которая впервые приехала в Штаты и полюбила американца от чувства одиночества и легкого привкуса экзотики.
Экзотичным был и вскоре купленный дом, пятнадцатикомнатный замок в стиле Тюдоров в районе Гарден Сити. Эта покупка была бессмысленной.
Правда же, бессмысленной, мама? (Писала Беверли матери в тот день, когда Питер подписал бесконечные бумаги о владении недвижимостью.) У нас теперь есть наше собственное пристанище, набитое башенками, шпилями, карнизами, цветными стеклами, тяжелыми дверями. Есть даже прекрасная разноцветная шиферная крыша, по которой мне хочется скатиться, но Питер не позволяет, говоря, что я сломаю шею. Дом слишком элегантен для нас, как сказала я Питеру, но он не послушался. Утверждает, что нам он подходит, потому что стоит девяносто тысяч долларов, и мы должны жить именно в таком доме, потому, черт подери, что можем себе это позволить, дорогая девочка (как он не слишком часто меня называет), ведь мы же до опупения БОГАТЫ.
Ее мать никогда не любила Питера, а мать не была мормонкой. Ее отцу Питер не очень нравился, а он был плохим мормоном (пьяным, обкуренным, редко Молившимся). Он резким вибрирующим голосом здоровался с незнакомцами на улицах с таким чувством превосходства, какого никогда не встретишь на Востоке. Питер был не самым приятным человеком в мире: слишком нетерпимым ко многому и, что еще хуже, даже не старался скрыть своей нетерпимости. Но в то же время он был еще и застенчив. А этого не хватало очень многим людям. Они бы простили его, часто думала Беверли, если бы знали, как трудно жить ему в мире. В этом была суть их связи, их общая беда, их общее сокровище: драгоценная, нерушимая, постоянная робость. Она была их убежищем и крепостью.
Медовый месяц они провели в Париже, и Питер был застенчив в отеле «Ланкастер». Потом поехали в Канны, и он был застенчив в отеле «Карлтон», что не помешало им стать модными отдыхающими. Он в белом пиджаке, она в белом платье, оба загоревшие до цвета кофе с молоком. Потом они жили в другом «Карлтоне», в другом городе и в другой стране: в Аликанте, на юго-восточном побережье Испании, где пили росадо и ушли из цирка в разгар боя быков… Это была идея Питера. Беверли было все равно, но ее интересовало, почему он считал важным уйти именно в эту минуту. Это был не самый интересный момент. Матадор готовился вонзить бандерильи в быка, и для большинства зрителей это было самым главным. В движении, которым матадор изгибал тело и уклонялся от атаки быка, была какая-то птичья грация, и это резкое движение, думала Беверли, было красивым, особенно красивым благодаря ярко-зеленому костюму, тесному, как вторая кожа. Но Питер взял ее под руку и сказал: «Vamonos». Идем. Единственное испанское слово, которое он знал.
— Но почему? — спросила она позднее, когда они сели выпить росадо в тенистом кафе.
— Это спорт педиков. Для американцев это так. Извини, но я не могу благоговеть и восторгаться так называемым искусством боя быков. Я сыт по горло видом быков и мужчин, которые убивают их какой-то палкой, торчащей из штанов. Скучно смотреть на тупых быков и верить, что у них есть яйца, дорогая. Я предпочитаю реальные вещи, а их в Испании нет, давно уже нет. Вся страна выпала из жизни мира, заснула во мраке. Ничего живого.
Застенчивые люди живут в горечи и унынии, решила Беверли, когда они молча возвращались в отель вездесущей компании «Карлтон», где открылась новая страница их постельной жизни. Питер возбуждал ее с самого начала. В Кембридже они занимались любовью на верхних этажах Бек Холла, и однажды он попытался задушить ее ремнем. Нет, не по-настоящему, лишь понарошку. Это было извращением, своего рода заявкой с его стороны. Беверли не восприняла ее буквально, потому что знала, что он не хотел этого по-настоящему, но все-таки это слегка обескуражило, потому что ее реакция на эту игру в удушение устанавливала очень многие важные вещи в их жизни. Она действовала слегка испуганно, слегка презрительно, слегка возбужденно. Питер хотел управлять ею, и в столь напряженный момент Беверли косвенно дала понять ему, что он может делать это сколь угодно долго. «Я люблю тебя», — сказал он тогда впервые. Пока Беверли не смогла полностью оценить природу его фантазий, она им сочувствовала и сдавалась. Питер был ее первым и последним любовником. В нем было нечто особенное, поэтому ей и в голову не приходило поменять его на другого мужчину. Ей нравился его облик. Худощавый и жилистый, в отличие от Беверли (у той была большая грудь с огромными розовыми сосками, широкие бедра). У нее было нечто, что Питер почему-то называл «кубинским».
Сначала Беверли ощущала, что немного крупновата для Питера, слишком тяжела для него. Может, она его нечаянно задавит во сне? Но он рассеял ее сомнения на этот счет.
— Все мы склонны преувеличивать наши физические особенности, — сказал Питер. — И это отражает наше желание найти недостающее в противоположном поле.
Беверли после этого стало легче, она чаще ходила по комнате обнаженной, не извиняясь за свою полноту. Питер любил смотреть на нее. Взгляд у него становился напряженным. Ей было интересно знать, что он думает, но не спрашивала, не уверенная в его ответе. Питер тискал ее соски так, что иногда она думала, что они лопнут, так они распухали. Он не мог оторвать от них рук, рта, он хотел, чтобы и она их трогала. В отеле «Карлтон» в Аликанте ее руки были под его руками, было так жарко, что Беверли могла утонуть в собственном поту. Тело ее стало невесомым и в то же время разбухшим. Жара стояла невероятная. Она слышала свои собственные плачущие звуки.
Наконец Питер был в ней, он подсунул под нее подушку, а с улицы доносилось печальное бренчание гитары. Беверли лежала на кровати в томной позе с небрежно раскинутыми ногами, как любил Питер, хотя ей это не очень подходило, поскольку клитор у нее был расположен необычайно высоко (он первое время вообще не мог его найти). А когда она так лежала, пусть и на подушке, то не могла возбудиться, но ее возбуждала мысль о том, как она волнует Питера. Однажды, когда он завелся, Беверли подняла ноги, потому что он уже вошел в нее. Его это не огорчило, а ей очень помогло. Важно было как можно выше поднять ноги. Нужно больше подушек. Они целый день умирали на пуховой горе с ногами, упершимися в уродливую люстру.
Когда у Беверли начинался оргазм, она бы убила любого, кто решился бы ей помешать. Когда-нибудь она станет старушкой (разве это возможно? разве она постареет, ведь она такая крепкая?) и тогда вспомнит любопытное чувство за несколько секунд до оргазма, чувство очень мощное и в то же время Такое хрупкое, такое тонкое, сопровождаемое привкусом во рту (подобным привкусу во время месячных); она не могла описать его, это чувство, не могла описать его словами, разве что цветом: чередующиеся красные и голубые молнии, сотрясающие все тело, пока они не завершаются изнемогающим сдавленным криком.
Чаще всего Беверли была сверху. Для них эта позиция была лучше, потому что дружок у Питера был не очень большим. Он входил плотнее, лучше, если она была сверху. Сначала Беверли не знала, как двигаться, и это слегка смущало ее, особенно когда она ловила его взгляд. Питер, выпучив глаза, смотрел на ее неуклюжие движения и задавал ей ритм, которому она с благодарностью следовала. Вскоре Беверли начала понимать, как ей действовать, и ее чрезвычайно возбуждала роль псевдоагрессора (а может, и настоящего?), когда Питер лежал под ней, желанный и любимый заговорщик, а она обнимала его гибкое, юное, мальчишеское тело. У мужчин тоже есть соски, с каким-то удивлением обнаружила она. Они волнуют. Щипок. Ему понравилось. Щип-щип.
В сексуальном отношении они росли вместе, так что через восемь лет брака и рождения двух детей наконец-то достигли начального класса. Был в их занятиях любовью какой-то детский привкус молока и пирожных, который Беверли ощущала, но не умела объяснить, но он забавлял ее. Очень часто у Питера пропадала эрекция в самый разгар событий, и тогда у нее возникало ощущение одиночества, смутное желание убить его или себя, но она изо всех сил старалась ничего не делать, чтобы не нервировать его еще больше. Чем чаще он терял эрекцию (они в это время бесцельно катались по северному побережью Лонг-Айленда), тем более изобретательным становился в отношении того, что они могли и должны делать. Питер так и не освободился от мечтаний об удушении, иногда хотел, чтобы она душила его цветными чулками.
— Розовыми?
— Нет, ангел мой, голубыми.
Она выполняла просьбу, но скучала при этом.
Или он наваливался на нее, что, кажется, жутко его возбуждало, и потому часто процесс заканчивался пристойной эрекцией. Ей иногда удавалось кончить, чем она очень гордилась. Но ощущения, что он был в ней, у нее не возникало. И как только Беверли заканчивала в такой позе, у нее тут же возникало желание, чтобы Питер был в ней. Оно было очень острым, ей нужно было, чтобы ее заполнили. Именно поэтому Беверли совершенно не устраивала мастурбация: страшное гложущее ощущение пустоты после этого. Что она могла поделать? Втыкать морковку? Кажется, некоторые женщины так и поступают. Беверли предпочитала не думать об этом, не думать о других вещах, которые, как она слышала, делались в этих целях… Их так мерзко называли, что ей, слава Богу, удалось забыть само слово. Питер рассказал ей о «приспособлениях», как он выразился, и захотел, чтобы она трахнула им его в задницу, но она впервые отказала мужу, ответив, что не сделает этого, не сможет, ее стошнит.
— Что ж, ладно, — сказал он. — Тогда я трахну тебя так.
— Этими штуковинами?
— Нет, милая, моей собственной.
Это было не плохо, но не так хорошо, как при других способах. Но Питеру нравилось, просто нравилось, он не мог насытиться, и в конце концов это начало угнетать Беверли, хотя она не запрещала ему, потому что… ну… он все-таки ее муж, первый и единственный любовник, отец ее детей, центр ее жизни, и что еще можно сказать? Это пройдет, думала Беверли, но все продолжалось. Потом он получил долгожданную работу репортера в модной газете Тони Эллиота, и это прошло. Как, впрочем, и все остальное. Их некогда активная постельная жизнь резко и со скрежетом остановилась. Питер потерял к ней интерес. Когда он спал, Беверли плакала. Когда просыпался, она пыталась возбудить его. Иногда это удавалось, они занимались любовью. Теперь всегда только в зад, и это так угнетало, что Беверли становилось еще хуже.
Проснувшись в среду, в день, когда на ужин должен был прийти Тони Эллиот, Питер сказал ей:
— Ты полнеешь, дорогая. Ты это знаешь?
— Я такая же, как всегда, — ответила она, ощущая глупость своего ответа.
— Пожалуйста, вечером надень черную накидку. Мне она очень нравится.
— Тони Эллиот не любит женщин с формами?
— Я не знаю, да мне и плевать, каких женщин любит Тони. Я знаю, что мне нравится.
Беверли ощутила привычное чувство обиды.
— А у меня было ощущение, что тебе нравлюсь я.
— Я без ума от тебя, дорогая, и именно поэтому хочу, чтобы ты сбросила несколько килограммов.
— Сбрасывают зерно в амбар.
— Не занудничай в семь утра.
— Питер, ты считаешь, что я выгляжу старше своих лет?
— А сколько тебе сейчас? — спросил он, протягивая руку за сигаретой (еще одна новая привычка: курить, едва проснувшись).
— Если бы я не знала, что ты шутишь…
— Сама знаешь, что я не силен в цифрах, — сказал он.
— Кроме веса толстушек?
— Я этого не говорил, дорогая.
— Правда, Питер, мне скоро двадцать девять, ты это прекрасно помнишь.
— «Правда, Питер», — передразнил он ее. И не скрывал злости. — Сбрось пять килограммов, и ты сбросишь пять лет.
Слезы навернулись на голубые глаза Беверли. У нее были рыжевато-коричневатые волосы, легкие веснушки и вздернутый носик.
— Женщины с таким цветом волос и кожи не должны плакать, — отметил Питер. — Брюнетки могут рыдать, блондинки хныкать, и они при этом очаровательно выглядят. Но рыжие… К несчастью, это разрушает сосуды. Правда, дорогая.
— Пожалуйста, поцелуй меня, Питер.
Он мягко и равнодушно поцеловал ее.
— Может, мы…
— Мне кажется, ты становишься нимфоманкой, дорогая.
— Но у нас это так редко сейчас…
Она вспомнила Аликанте, печальный звук гитары, и ей стало наплевать на сосуды. Поток слез утешал и успокаивал. Беверли теперь не знала, как ей жить. Гарден Сити стал для нее маткой, вот в чем ирония. Бедный ее папочка хотел, чтобы она покинула матку Солт Лейк Сити, и что же из этого вышло? Для чего все это? Она добилась только восточного варианта той же ситуации и продолжала зарываться в нору. Беверли просмотрела газету, в которой работал Питер. Она не понимала этой газеты, ее направления, ее позиций, даже если они и существовали. Может, это какая-то шутка? Она могла понять «Вог» или «Харперс», потому что они были экстравагантно роскошными. Эти женщины в платьях, которые нельзя носить. Немыслимые украшения. Невероятные купальники. Да, это забавно, любопытно, это отвлекает. Двухметровые модели из Западной Индии, их можно было принять за сон, мечту. Но газета Питера была совсем иной. Она требовала другого принципа восприятия, другой реакции. Она должна быть более оперативной (это же газета, хотя и еженедельная), у нее не было глянца дорогих четырехцветных фотографий, как в журналах. В соответствии с дурацкой мечтой издателя газета фотографировала реальных (что бы это значило?) женщин в их реальных платьях от Сен-Лорана, Кардена, Куренжеса, Шанель, Гивенчи, Унгаро, Галанос, Билла Бласта, Норреля, в реальных ресторанах в реальных столицах. Они болтали за обедами с блинами и черной икрой, устрицами в соусе из шампанского, телятиной и муссом Кампари. Но какие же они тоненькие, эти вечно обедающие женщины! Они и вправду едят ту пищу, которую заказывают, или просто демонстрируют свои кулинарные вкусы, которые будут подробно описаны в следующем выпуске «Тряпья»?

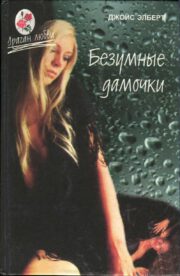
"Безумные дамочки" отзывы
Отзывы читателей о книге "Безумные дамочки". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Безумные дамочки" друзьям в соцсетях.