Собираясь с силами, чтобы заговорить, он втянул ноздрями воздух. С воздухом вошло чудо, чародейство памяти – запах волос, кожи, который он совсем забыл по ту сторону мира и от которого в нём забил бурный поток воспоминаний. Он закашлялся, борясь с этим половодьем, перехватывающим горло, утоляющим жажду, от которой пересохли уголки губ, солёной влагой переполняющим веки и милосердно затуманивающим приземление на жёсткую кровать… В безымянной дали чей-то голос произнёс, повторяясь бесконечным эхом: «Он плачет… Господи, он плачет…» Голос потонул в какой-то буре, из которой вырывались бессвязные слоги, всхлипы, призывы к кому-то присутствующему, невидимому… «Скорей, скорей, подите сюда!»
«Сколько шуму, сколько шуму», – неодобрительно думал мальчик. Но всё крепче и крепче бессознательно прижимался щекой к мягкому, гладкому, окаймлённому волосами и пил с него горькую росу, стекающую перл за перлом… Он отвернул голову, по пути обнаружил неглубокую ложбину – гнездо, свитое как раз по его мерке. Там, успев назвать его про себя: «плечо Госпожи Мамы», он и потерял сознание или, может быть, уснул.
Очнувшись, он услышал собственный голос, произнёсший легко, чуть насмешливо: «Откуда вы взялись, Госпожа Мама?»
Ответа не было, но сладостный вкус апельсиновой дольки, скользнувшей ему в рот, принёс чувство возвращения, присутствия той, кого он искал. Он знал, что она склоняется над ним в той покорной позе, от которой гнулся её стан и затекала спина.
Тут же обессилев, он умолк. Но его уже осаждали тысячи забот, и он преодолел слабость, чтобы выяснить самое неотложное: «Госпожа Мама, вы сменили мне пижаму, когда я спал? Вчера вечером я лёг в голубой, а эта розовая…»
– Мадам, это что-то невероятное! Он помнит, что был в голубой пижаме в первую ночь, когда…
Он оставил без внимания конец фразы, произнесённой толстым тёплым голосом, и отдался на волю рук, стягивавших с него влажную одежду. Рук, таких же ловких, как волны, на которых он качался, невесомый, беззаботный…
– Он весь вспотел… Закутайте его в большой халат, Мандора, целиком, с руками.
– Отопление хорошо работает, мадам, не беспокойтесь. И я только что положила грелку. Надо же, весь мокрый…
«Знали бы они, откуда я вернулся… Будешь тут, пожалуй, мокрый… – думал Жан. – Хочется почесать ноги, или пусть стряхнут этих муравьев…»
– Госпожа Мама…
Он уловил, как бдительно замерли звуки и движения, что и было ответом насторожённой Госпожи Мамы.
– Пожалуйста, если можно… почешите мне ноги, а то эти муравьи…
Из глубины безмолвия кто-то прошептал со странной почтительностью:
– Ему чудятся муравьи… Он сказал «муравьи»…
Он попытался пожать плечами, спелёнутыми слишком большим халатом. Ну да, он сказал «муравьи». Что такого удивительного в том, что он сказал «Рики» и «муравьи»? Грёза несла его, утратившего вес, к границе яви и сна; вернуло его прикосновение ткани. Сквозь ресницы он узнал ненавистный рукав, совсем близко, синие полоски, мелкие шерстинки, и злость придала ему сил. Он отказывался смотреть, но раздавшийся голос разомкнул ему веки, голос, проговоривший: «Ну, мой юный друг…»
«Я не хочу его, не хочу!.. – закричал про себя Жан. – Он, его рукав, его мойюныйдруг, его маленькие глазки – ненавижу, не хочу!» Он изнемогал и задыхался от негодования.
– Ну-ка, ну-ка… Что там у него? В самом деле, движение… Вот… и вот…
На голову Жана легла ладонь. Не имея возможности сопротивляться, он открыл глаза в надежде взглядом испепелить врага. Но обнаружил только сидящего у изголовья на стуле Госпожи Мамы славного, довольно грузного, довольно лысого человека, глаза которого, поймав его взгляд, увлажнились.
– Мальчик мой, мальчик… Вы правда чувствуете в ногах мурашки? Правда? Чудесно, чудесно… Не хотите ли полстаканчика лимонада? Ложечку лимонного шербета? Глоточек молока?
Рука Жана не противилась толстым, очень ласковым пальцам тёплой ладони. Он что-то смущённо пробормотал, сам не разбирая, то ли он извиняется, то ли принимает шербет, питьё, молоко… Бледно-серыми от слабости глазами, обведёнными тенью, под тёмными бровями, он здоровался с маленькими, весёлой голубизны глазками, моргающими, влажными, добрыми…
Дальше новое время распалось на череду бессвязных моментов, сна – глухого, то долгого, то краткого, – отчётливых пробуждений и смутных содроганий. Славный доктор растворился в празднестве шумов – кха-кхам, кха-кхам, в толстом довольном кашле, в «Мадам, в добрый час! Теперь мы вне опасности», – шумов таких весёлых, что Жан, если б не расслабляющая беспечность, спросил бы, что за радость приключилась в доме.
Необъяснимым образом пробегали часы, обозначенные вехами фруктов в желе и ванильного молока. Яйцо всмятку приподняло крышечку, открыв свой лютиковый желток. Полуоткрытое окно впустило хмельное дуновение, весеннее вино…
Милому парикмахеру ещё не было дозволено возобновить свои визиты. Волосы, отросшие, как у девочки, падали Жану на лоб, на шею, и Госпожа Мама осмелилась завязать их розовой ленточкой, которую её сын отшвырнул оскорблённым мальчишеским жестом…
За окном на ветке каштана с каждым днём набухали почки, похожие на розовые бутоны, а по ногам Жана сверху донизу сновали муравьи с маленькими кусачими жвалами. «Госпожа Мама, вот, я поймал одного!» Но ему удавалось ущипнуть только прозрачную кожу, а муравей скрывался в ветвистом дереве вен цвета весенней травы.
На восьмой день новых времён широкий солнечный шарф поперёк кровати взволновал его сильнее, чем можно было вынести, и он решил, что этим вечером ежедневная лихорадка вернёт ему то, чего он напрасно ждал целую неделю, то, что не допускали до него глубокая усталость и сон, однородный с чёрным покоем: безликих спутников, скачку, доступное небо, неуязвимость ангела в свободном полёте…
– Госпожа Мама, пожалуйста, можно мне мои книги?
– Голубчик, доктор говорит…
– Не читать. Госпожа Мама, а чтоб они снова ко мне привыкли.
Она ни слова не сказала и с опаской принесла растрёпанные книжки, корявую мостовую, белого тельца, мягкого, как человеческая кожа, «Помологию» с цветными щекастыми плодами, Герена, испещренного плосколицыми львами, утконосами, над которыми парят насекомые, огромные, как острова…
Вечером, отяжелев от волшебных лакомств, которые он поглощал с алчностью воскресшего ребёнка, он притворился, что сон сморил его, пробормотал пожелания спокойной ночи – наскоро импровизированную лукавую и невнятную песенку. Дождавшись ухода Госпожи Мамы и Мандоры, он принял командование плотом из фолиантов и атласов и взошёл на борт. Молодой месяц за веткой каштана возвещал, что почки по милости весны вот-вот развернутся в пальчатые листья.
Он без посторонней помощи сел в постели, таща на буксире ещё грузные ноги, зудящие от муравьиной беготни. В глубине окна в небесной воде ночи купались вдвоём изогнутый месяц и неясное отражение мальчика с длинными волосами, которому он подал призывный знак. Он поднял руку, и другой мальчик послушно повторил его приглашающий жест. Слегка опьянённый могуществом и чудесами, он призвал сотрапезников жестоких и избраннических часов – зримые звуки, осязаемые образы, моря, которые можно вдыхать, воздух, питающий и подхватывающий, крылья, при которых не надо ног, смеющиеся звёзды…
Главное, он звал неистового маленького мальчика, который втайне буйно веселился, покидая землю, обманывал Госпожу Маму и, владыка её горя и радостей, держал её в плену сотни нежных притворств…
Он подождал, но ничего не произошло. Ничего не произошло ни в эту ночь, ни в следующую – больше ничего и никогда. Пейзаж с розовыми снегами исчез с никелированного ножа, и никогда больше Жану не парить в голубом, как барвинок, рассвете над острыми рогами и прекрасными выпуклыми глазами мокрого от росы стада… Никогда больше жёлтая и коричневая Мандора не зазвучит всеми струнами, гудящими – дзромм, дзромм – под её просторным гулким платьем. Камчатные Альпы, громоздящиеся в большом шкафу, – неужели отныне они отказывают ребёнку, скоро совсем здоровому, в подвигах, которые разрешали немощному мальчику на склонах воображаемых ледников?
Время велит приниматься жить. Время отказаться умирать в свободном полёте. Жан прощально машет своему отражению с ангельскими кудрями, которое возвращает ему этот знак из глубины ночи, земной и отлучённой от чудес, единственной ночи, дозволенной детям, которых отпустила смерть и которые засыпают смирившиеся, исцелённые и разочарованные.

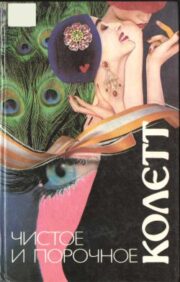
"Больной ребенок" отзывы
Отзывы читателей о книге "Больной ребенок". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Больной ребенок" друзьям в соцсетях.