Она описывала смесь как «коктейль и диету в одном флаконе».
Я-я всегда обыгрывали имя моей матери. Если Тинси приезжала на вечеринку, где царила скука, она обычно объявляла, что «здешнюю атмосферу необходимо вивифицировать[15]. Иногда они объявляли об осуществлении «проектов ре-вивификации», вроде того, когда мама и Ниси переделывали формы для моего отряда герл-скаутов.
В детстве я была убеждена, что мама настолько известна в мире, что в английском языке существуют слова, изобретенные специально для нее. Ребенком я часто перелистывала довольно скудный раздел словаря Уэбстера под буквой V и изучала относившиеся к маме слова. Тут было «vivid», что означало «яркий, живой, пылкий». И «vivify» — «оживлять, обновлять, животворить». И еще «vivace», «viva», «vivacious», «vivacity», «vivarium» и «viva voce»[16]. И мама была корнем и источником всех этих слов. Кроме того, к ней относилась и фраза «Vive le roi», которая, как она объясняла нам, означает «Да здравствует королева Виви».
И все эти определения так или иначе относились к самой жизни. Как и мама.
Вот только слово «вивисекция» сбивало меня с толку. «Хирургическая операция, проводимая на живом животном с целью изучения строения и функций живых органов и частей тела». Оно казалось мне совершенно выпадающим из общего ряда. От самих этих звуков мороз шел по коже. Я постоянно просила маму объяснить его, но так и не успокаивалась. И вечно пыталась найти слова, которые могли бы относиться ко мне. Перелистывала любой словарь, попадавший мне в руки. Должно же быть хоть одно слово, связанное со мной! Хотя бы «siddafy» вместо «vivify». Но ближе всего по смыслу было «sissified»[17], что совсем меня не удовлетворяло.
Только когда я была уже во втором или третьем классе, моя подружка Милен Шован заявила, что мама не имеет никакого отношения к словам в словаре. Мы даже подрались из-за этого, и сестре Генри Рут пришлось вмешаться и разнять нас. Когда монахиня подтвердила слова Милен, я была вне себя от горя. Сначала. Это изменило все мое восприятие действительности. Так начался крах безоговорочной убежденности в том, что мир вертится вокруг мамы. Но вместе с разочарованием пришло несказанное облегчение, хотя в то время я не могла себе в этом признаться.
Так много времени я была твердо уверена, что моя мать звезда, и когда обнаружилось, что это не так, потрясение оказалось слишком велико. Может, она была звездой когда-то, но с тех пор ее блеск померк? Потому что появились мы? Или мама с самого начала вовсе не была звездой?
Иногда меня начинали терзать угрызения совести, стоило только хоть в чем-то затмить маму. Даже выиграв школьный конкурс на знание орфографии, я встревожилась, опасаясь, что не смогу сверкать, не оставив в тени ее.
Тогда я не понимала, что мать жила в мире, который не мог или не хотел признать ее сияние, значение на этой земле; по крайней мере не в такой степени, как она заслуживала. Поэтому она вместе с остальными я-я сотворила собственную солнечную систему и жила на ее орбите так полно, как только могла.
Нужно заметить, мой отец по-настоящему так и не был включен в эту орбиту. Все мужья я-я существовали в иной вселенной, не в той, где сами я-я и мы, ребятишки.
В нашем летнем мирке Спринг-Крик мы плели заговоры против мужчин, издевались над ними, высмеивали, слушали наших матерей, изображавших отцов у лагерного костра. Жадно подмечали, когда именно они обходились с отцами то как с повелителями, то как с дураками, а время от времени как с любовниками. Но ни разу мы не видели, чтобы я-я отнеслись к своим мужчинам как к друзьям.
Возможно, мама больше, чем Ниси, Каро или Тинси, зависела от подруг, пытаясь от них получить то, чего не дал или не мог дать брак. Не сомневаюсь, что при всех супружеских проблемах мать любила отца… по-своему. Так же, как и отец любил ее. По-своему. Беда только в том, что их манера любить друг друга частенько меня ужасала.
Что делали я-я у ручья? Большую часть времени проводили в болтовне. Снова и снова накладывали свой состав для загара, неусыпно следили за нами. Вернее, делали это по очереди, особенно когда мы плескались, ныряли, пулей выскакивали из воды, уходили на дно, брыкались, плавали и дрались. Дежурившая в данный момент я-я почти не участвовала в беседе, поскольку следовало постоянно пересчитывать темневшие в воде головки числом всего шестнадцать. У Ниси было семеро детей, у Каро — трое, и все мальчики. У Тинси — мальчик и девочка. Плюс четверо у моей матери. Каждые полчаса дежурная я-я вставала, смотрела на воду и дула в свисток, свисавший со старого ожерелья из стеклянных бусин. При этом от нас требовалось немедленно оторваться от любых занятий и выкликнуть свой порядковый номер.
После пересчета нам снова разрешалось играть, а я-я спокойно устраивалась на одеяле. И хотя вышеуказанные леди не переставали пить, должна сказать, что ни один ребенок не утонул за все долгие летние месяцы, проведенные на ручье.
По крайней мере дважды за лето мама заставляла кого-то из нас притворяться утопающим, чтобы самой в очередной раз попрактиковаться в методах спасения на воде. Мама училась спасать утопающих задолго до нашего рождения. Каждые три года ей приходилось подтверждать сертификат в Красном Кресте, но все же она считала своей обязанностью проводить учения каждое лето. Мы умоляли, просили, визжали и дрались за честь стать очередной жертвой утопления: уж очень нравилось внимание, которое нам уделяли.
Все, что от вас требовалось, — проплыть к глубокому месту и беспомощно болтаться на воде, размахивая руками и вопя так, словно каждый вздох будет последним.
Мама, как планировалось, стояла на берегу в шортах и короткой блузке поверх купальника. И, услышав крики, поднимала руки к глазам, чтобы заслониться от солнца. Потом принималась обшаривать взглядом горизонт, словно индейская принцесса, одновременно срывая блузку, шорты и сбрасывая теннисные туфли. Разбегалась и ныряла — это был фирменный прыжок спасателя. После маминого нырка можно было немного успокоиться и наблюдать, как она плывет, быстро, уверенно, к тому месту, где ты тонешь.
Добравшись до тебя, она громко приказывала:
— Маши энергичнее, мивочка! Маши!
И ты принималась с новой силой шлепать руками по воде, брыкаться и визжать. И тут мама подводила руку под твой подбородок, откидывала твою голову себе на грудь и начинала процедуру спасения, мощно отталкиваясь ногами, чтобы оттранспортировать на поверхность себя и предполагаемую жертву.
Вытащив тебя на берег, мама припадала ухом к твоей груди. Потом обшаривала пальцами рот, дабы убедиться, что глотка ничем не забита, после чего начиналась самая драматичная часть: реанимация. Вернее, искусственное дыхание «рот в рот», Поцелуй Жизни. Или, как мы это называли, вивификация «рот в рот». Критический момент, означавший разницу между жизнью и смертью. Она зажимала тебе нос, клала одну руку на твою грудь и принималась вдыхать в тебя воздух. Дышала, нажимала ладонью на грудь и снова дышала. Наконец, удовлетворившись результатами, мама вставала и с гордой улыбкой объявляла:
— Мы почти потеряли тебя, мивочка, но теперь, думаю, все в порядке.
Иногда подобные представления до смерти пугали младших детей, не понимавших, что все это не взаправду. Поэтому у мамы вошло в привычку приглашать каждого пти я-я наклониться над спасаемым, ощутить, как воздух выходит из его ноздрей. После того как последний ребенок убеждался в действенности метода, все начинали хлопать. Мама, как всегда, подпрыгивала на одной ножке, выливая воду из ушей, и говорила:
— Хорошо, что не утратила квалификации.
Еще много дней после спасения из пучины ты перебирала в памяти все подробности с волнением и трепетом человека, заглянувшего в глаза смерти. Вспоминала, как уверенно она вытаскивала тебя из воды, вкус ее губ и запах дыхания. И еще много дней опасалась близко подплывать к глубокому месту, потому что чересчур живо представляла это «почти утопление». Мало того, начинала бояться аллигаторов, даже когда плескалась на мелководье. И постоянно гадала, что будет, если вдруг начнешь тонуть, а мамы не окажется рядом и некому будет нырнуть в воду и спасти тебя: скажем, она просто повернулась и ушла. Как в тот раз, когда ты была маленькой и сидела дома с бронхитом, а за окном лил и лил дождь. День за днем. Ты все время подбегала к окну, а ее не было. И ты была такой плохой, такой ужасной, что она дала тебе пощечину и просто ушла. Повернулась и ушла.
Но не одна мама хорошо плавала. Каро тоже была спасателем и обладала даже большей выносливостью, когда речь шла о некоторых стилях. Каро, с ее оливковой кожей и рыжевато-каштановыми волосами, уложенными в прическу «паж», выросла на берегах Мексиканского залива и могла часами держаться на воде. Купание в ручье было незначительным событием по сравнению с океанскими приключениями. Мама всегда говаривала: «Каро, вне всякого сомнения, лучшая пловчиха, которую я когда-либо знала или буду знать».
Каро достойно оттеняла мамину несгибаемость. Ростом пять футов девять дюймов, то есть гораздо выше, чем считалось модным в те времена, когда миниатюрность не только приветствовалась, но и боготворилась, длинноногая, с фигурой, идеально подходившей для костюмов Хэтти Карнеги, которые она все еще носила, хотя куплены они были много лет назад, она казалась мне единственным достойным примером для подражания. Плоская грудь и широкие плечи делали ее идеальной «вешалкой» для модной одежды, хотя из всех я-я именно она менее всего заботилась о подобных вещах. У нее было лишь одно черное вечернее платье без бретелек, с открытой спиной, открывавшее икры во время танца. Она надевала его на все вечеринки я-я, которые я помню с детства. Поверх Коро накидывала боа из перьев, за которым я и моя сестра Лулу гонялись как за живым существом. Как-то на мамин день рождения она даже нацепила ковбойские сапоги и стетсон, превратившись в нечто среднее между Марлен Дитрих и Энни Оукли[18].
Kapo — моя крестная, и мне не раз рассказывали историю о том, как в самом конце церемонии крещения она ни с того ни с сего стала насвистывать: «Загадай звезде желанье». И ко всем обращалась «дружище». «Эй, дружище, — восклицала она, — как оно ничего?» При этом людям невольно приходили на ум нью-йоркские таксисты или гангстеры тридцатых годов, но, обращаясь к человеку «дружище», Каро тем самым включала его в свой особый богемный круг.
Именно из-за нее я и причислила себя к богеме в возрасте восьми лет. Отказывалась носить что-то еще, кроме черного танцевального трико, колготок и темных очков, оставшихся после одной из родительских вечеринок с коктейлями. Да к тому же сменила имя на «мадам Войланска». На обращение же «Сидда» попросту не реагировала. Когда монахини пожаловались маме, та объяснила, что если мне угодно зваться мадам Войланской, значит, так тому и быть. Вернувшись домой из школы, я облачалась в свой траурный ансамбль и для пущего эффекта добавляла к общему облику сигарету. Связывала волосы в конский хвост и часами просиживала на табуретке перед стеклянными раздвижными дверями во внутренний дворик, рассматривая свое отражение. Нет, я даже не делала вид, что курю (подобные привычки скорее были присущи Лулу). Я пользовалась сигаретой как реквизитом, оттачивая элегантную жестикуляцию. Держала ее между большим и указательным пальцами и небрежно протыкала воздух, словно подчеркивая важность и вес собственных доводов. Эти самые доводы достаточно полно выражались в моих стихах. Одно из таких стихотворений до сих пор лежало в альбоме. Написанное детским почерком и датированное шестьдесят первым годом, то есть когда мне было восемь. Я была потрясена и тронута, увидев его. Да, ничего не скажешь, моя матушка — мастерица преподносить сюрпризы!
СВОБОДА
Мадам Войланска
Я двадцать шесть раз обошла вокруг дома!
Хлопала в ладоши и пела, и пела!
Но тут мои волосы встали дыбом!
И я не пригладила их!
Я обожала сочинять стихи и никак не могла взять в толк, почему нельзя каждую фразу заключать восклицательным знаком. Сестра Родни Мэри имела обыкновение обводить каждый противным красным кружком и писать: «Пользуйся точками, а не восклицательными знаками».
В школе я наконец заставила себя ставить не больше одного восклицательного знака на абзац, зато в стихах не знала меры. Позже, в старших классах, я обнаружила, что великолепный Уолт Уитмен любил восклицательные знаки не меньше меня. Это — а еще непрестанное удивление окружающим миром, экзальтация и самоотверженное ухаживание за умирающими солдатами — сделало его одним из моих героев.
Тогда я твердо знала, что все истинные представители богемы носят темные очки, иначе Каро не была бы ведущей (и единственной) богемной особой Торнтона. В те времена она их не снимала. Правда, и остальные я-я тоже носили темные очки, особенно с похмелья, по утрам, надевая их даже к воскресной мессе. С Каро, однако, дело обстояло немного хуже, поскольку глаза у нее начинали болеть от самого крошечного солнечного лучика. Несколько лет она не снимала очки даже в постели и в самые пасмурные дни. Жители Торнтона постепенно приходили к заключению, что с Каро что-то неладно, и советовали ей пожить подальше от города. Многие не знали, что все дело в больных глазах, и считали ее заносчивой воображалой, пытающейся подражать кинозвездам.

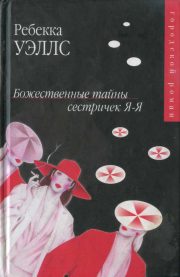
"Божественные тайны сестричек Я-Я" отзывы
Отзывы читателей о книге "Божественные тайны сестричек Я-Я". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Божественные тайны сестричек Я-Я" друзьям в соцсетях.