«Кем это, спрашивается, она себя считает?» — негодовали они. Некоторые наиболее несносные типы — взрослые, если верить Каро, — не стеснялись подходить к ней и беспардонно требовать, чтобы она сняла очки и показала людям свои глаза. Словно Каро нарушала какой-то закон, воспрещающий ношение очков!
Но для меня эти самые очки были признаком высшего класса, и я, в подражание Каро, носила их по ночам, то и дело натыкаясь на мебель и набивая синяки.
Волосы и глаза Тинси были угольно-черными. Едва достигавшая пяти футов, она имела такую же оливковую кожу, как и Каро, и крошечные, почти детские ножки. Они с мамой впервые встретились, когда ей было четыре года, в приемной доктора. Эта история стала легендой в Торнтоне, поскольку речь шла о большом пекановом орехе, который Тинси засунула в нос, дабы проверить, поместится ли. Он действительно поместился, и понадобилось все тончайшее искусство доктора Мотта, чтобы извлечь его. С тех пор орех покоился за стеклом в специальной витрине доктора, украшенной табличкой: «Инородные предметы, извлеченные у детей». Под орехом значилось: «Орех из левой ноздри Тинси Уитмен. 18 июля 1930 года».
Когда мы были маленькими, это обстоятельство снискало Тинси нечто вроде славы среди школьников.
У нее было идеальное тело, и все мы изучили его, как свои собственные. Одной из ее причуд (когда веселье было в самом разгаре, когда бурбон тек рекой, когда время казалось подходящим и когда ей взбредало в голову) было устраивать изумительно красивый, профессионально выполненный, сексуальный и ужасно забавный стриптиз. Мы все видели ее на бесчисленных вечеринках я-я и слышали рассказы о том, как она проделывала это в отеле «Теодор», во время празднования пятой годовщины свадьбы Каро и Блейна. Нас, пти я-я, приучили упоминать об этом как о дезабилье Тинси[19].
Тинси всегда носила ужасно откровенные купальники. Я-я называли ее Королевой Бикини, а ее рискованные выходки стали притчей во языцех в округе Гарнет. Лично я была твердо уверена, что она получает эти купальники почтой прямо из Парижа.
И плавала она исключительно на спине. На спине в своих возмутительных, противоречащих уставам католической религии бикини. Время от времени она принималась бешено молотить ногами, взбивая своими крошечными изящными пальчиками белую водяную пену, и по инерции проплывала несколько футов, прежде чем замереть на несколько секунд, а потом, широко раскинув руки, принималась грациозно ими двигать, словно дирижировала неким плавным легато водяной симфонии. Устав от всего этого, она переворачивалась и аккуратно ныряла, так что пальцы ног устремлялись в небо острыми наконечниками стрел. О, как же долго она умела оставаться под водой! Целую вечность! И все мы бились об заклад, споря, когда она покажется на поверхности. И когда ее хорошенькая, черная, как у тюленя, головка пробкой выскакивала из воды, дети хором ахали: «Где только Тинси держала весь этот воздух?!»
У нее всегда были деньги, которые она щедро раздавала тем из нас, кто в этом нуждался. Умирая, отец оставил ей жирный пакет акций «Кока-Колы». Чак, ее муж, тоже унаследовал неплохое состояние, так что появлялся в деловой части города только затем, чтобы выпить кофе с другими мужчинами в кафе «Ривер-стрит». Именно Тинси финансировала Лулу, когда та начала собственный бизнес, решив стать дизайнером интерьеров. И именно Тинси — заметьте, без лишних вопросов — отправила мне телеграфом десять тысяч долларов, когда я, оставшись без гроша и работы, позвонила ей в конце своего первого года в Нью-Йорке. Кроме того, Тинси предложила — правда, в тот момент она едва держалась на ногах — заплатить за всех и каждого из пти я-я, решившего обратиться к психотерапевту. Это предложение было озвучено на вечеринке по случаю окончания школы. Сразу три я-я выходили в жизнь: Жак, сын Тинси, Тернер, сын Каро, и я.
В то время никто не подумал его принять, о чем я часто жалею, поскольку денег, сэкономленных на этом, вполне хватило бы, чтобы купить небольшое государство. Единственная дочь Тинси, подруга моего детства Дженни, к тому времени получила больше помощи психотерапевтов (как амбулаторной, так и клинической), чем в силах представить себе любой нормальный человек. Собственно говоря, к тому времени, когда мы заканчивали школу, она уже во второй раз лежала в частной психушке. Но это уже другая история. Ее изящное, хрупкое безумие, граничащее с постоянным пребыванием в мире грез, напоминало об историях, которые я слышала о Женевьеве, матери Тинси. Да, ничего не скажешь, этой семье досталась своя доля скорби.
Таковы были наши судьбы. Переплетенные, перемешанные, сросшиеся. Мы родились и воспитывались в захолустном, третьеразрядном американском штате, где наши семьи считались высшим обществом, а их грехи — очаровательными и по большей части не имеющими названия. Так много историй о клане я-я…
Когда пти я-я, исключая детей Уокеров, дружными рядами явились на представление «Женщин в лунном сиянии», я на несколько часов почувствовала: мне даровано нечто вроде передышки от моего сиротского состояния. Хотя сами я-я, в угоду моей матери, не пришли на спектакль, их дети не послушались родителей. Мало того, каким-то образом ухитрились на это время вызволить Дженни из лечебницы.
Альбом для вырезок содержит не только жизни матери и я-я, но и неизбежно захватывает следующее поколение. Мы были общинным племенем, маленькой примитивной деревушкой, в которой царил матриархат. Особенно это было заметно в летние дни на Спринг-Крик, когда мужчины оставались в городе, работали всю неделю и приезжали только на уик-энды.
Ниси больше остальных я-я походила на маму. Но и у нее тоже имелись свои заморочки. Прежде всего у нее одной были длинные волосы. Именно они свидетельствовали о том, что она я-я. Жены и матери пятидесятых и начала шестидесятых просто не носили таких длинных красивых волос. Во всяком случае, не в Торнтоне. Волосы Ниси были густой, роскошной каштановой гривой, ее гордостью и славой. Летом по утрам в Спринг-Крик, когда Ниси только просыпалась, они рассыпались по ее плечам и сверкали на ярком солнышке. Мы все любовались ими, когда она сидела на крыльце и пила с нами кофе. Она позволяла мне часами играть со своими волосами, не обращая ни на что внимания. Я сидела, рассеянно прислушиваясь к женским голосам, прокатывавшимся над моей головой, и просто играла с тяжелыми, чистыми, пахнущими «бреком»[20] волосами.
Я любила поднимать ее волосы, подносить их к лицу и нюхать. И получала некое слабое удовольствие от этого простого, невинного, чувственного акта. Удовольствие, которое ушло из моей жизни по мере взросления, о чем я позже жалела.
Я любила наблюдать за я-я, выбиравшимися из ручья. С волос ручьями текла вода. Все выглядели изящными, элегантными и прекрасными, как новый, неизвестный доселе вид экзотических водяных животных. Русалки и нимфы, живущие своей тайной жизнью на дне теплой лагуны.
В такие «ручейные» дни мама никогда не волновалась насчет своих волос, очень коротко остриженных. Она называла это «шапочкой четырех ребятишек». Она была натуральной блондинкой, и без макияжа ее волосы и ресницы были того же оттенка. Много лет спустя, когда Миа Фэрроу обрезала волосы, я-я хором провозгласили, что она подражает матери.
Зато ее глаза были темно-карими, с красноватым оттенком, что сообщало лицу выражение силы, уверенности, которого без этого контраста наверняка бы не было. Светлая кожа и волосы придавали ей обманчивый вид хрупкости. Зато глаза красноречиво говорили о том, что она берется за дело всерьез и не любит шутить.
Выйдя из воды, она обычно вытирала волосы, красила губы и тянулась к белой шляпе с широкими полями, потому что, как она поучала нас, блондинки могут лежать на солнце только под очень широкими полями. Моя мама ужасно любила такие шляпы.
В те дни я знала ее тело вплоть до формы пальцев на ногах, ногти которых обычно отсвечивали ее фирменной маркой, лаком «Рич герл ред». Светлую кожу плеч и щек усеивали крохотные веснушки цвета корицы. Под ними переливалась молочная белизна. Иногда, при определенном освещении, сквозь кожу просвечивали тонкие лиловые и голубые вены, и это обычно ужасало меня.
И ходила она как заправская теннисистка, какой на самом деле и была. Ноги прекрасно выглядели в шортах, которые она ничтоже сумняшеся носила даже там, где это не слишком приветствовалось. Итак, летом она носила шорты, безупречно чистую рубашку из полотна или ситца, аккуратно в них заправленную, белые спортивные носки, белые кеды с круглыми мысками, называя все это своей летней формой. Во всем белом, как теннисистка.
В маленьком женском теле каким-то образом умещалась великанша. В ней было всего пять футов четыре дюйма, и она никогда не весила более ста пятнадцати фунтов — если, разумеется, не была беременна. Мать по праву гордилась своим весом и из кожи вон лезла, чтобы его поддерживать. Зато руки и ноги, казалось, принадлежали более высокой женщине. Не то чтобы они были слишком длинны для ее тела, просто со стороны наблюдалась некая излишняя гибкость, гибкость, под которой скрывалась собранность. Похоже, огонь, горевший в теле моей матери, был чересчур горяч и для ее светлой кожи.
«Я сейчас выпрыгну из кожи», — говаривала она. И в детстве я все время боялась, что именно так и произойдет.
Она совсем не походила на матерей из книжек и фильмов. Если не считать на удивление пышных для ее тонкой талии грудей, она не имела обычных женских округлостей и была скорее мускулистой и жилистой. Любая унция жира, пытавшаяся с возрастом осесть на ней, немедленно изгонялась диетой или физическими упражнениями. Как-то Ниси осторожно спросила ее: «Виви, почему ты стремишься оставаться такой худой? Нам уже не восемнадцать». «Когда я решу откинуть копыта, хочу уйти с легким багажом», — немедленно ответила мать, словно ждала вопроса.
Закрывая глаза, я вижу перед собой мать точно такой же, как много лет назад, в моем детстве. Слышу все богатые, бархатистые оттенки ее голоса. В нем нотки Скарлетт — Кэтрин Хепберн — Талулы[21].
Зато я ничего не знаю о ее теперешнем теле. Обнаженном теле. Доходили слухи, что она «немного пополнела», но доказательств у меня нет. Более двадцати лет я не видела мать без одежды. И неизвестно, узнаю ли ее, не видя лица и не слыша голоса, и от этого становится грустно.
Думая о Виви моего детства, я чувствую себя подавленной и ошеломленной. Она родила четверых… пятерых, если считать моего умершего брата-близнеца. Родила за три года девять месяцев. Это означает, что с самой свадьбы у ее тела не было ни единого шанса отдохнуть и успокоиться от безумных гормональных танго беременностей. Это означает, что четыре-пять лет подряд она была лишена нормального сна. Одному лишь Богу известно, как мама любит поспать (почти так же, как я). Она частенько признавалась, что способна ощущать сон на вкус и он такой же восхитительный, как варенье на свежем французском батоне.
Даже в детстве вы понимали, что она не из тех женщин, которым предназначено иметь четверых детей-погодков. Даже стоя рядом с ней, вы понимали, что просите слишком многого, когда дергали ее за шорты, умоляли и настаивали: «Взгляни на меня, мама! Смотри, как я делаю это, мама. Ну обернись же!»
Но этими летними днями моя мать казалась богиней, резвившейся с подругами на берегу ручья. Иногда я поклонялась ей. Иногда из кожи вон лезла, чтобы добиться того внимания, которое она уделяла я-я. Иногда ревновала так, что желала смерти Каро, Ниси и Тинси. Иногда сидевшие на одеялах мама и ее приятельницы казались мне столпами, подпиравшими небеса.
Здесь, в охотничьем домике, в двух с половиной тысячах миль от Луизианы и десятках лет от моего детства, если закрыть глаза и сосредоточиться, я ощущаю запах матери и остальных я-я, словно мое собственное тело сохранило ароматы я-я, кипящие на черной чугунной жаровне, и в самые неожиданные моменты они поднимаются и смешиваются с благоуханием моей нынешней жизни, составляя новые-старые духи. Мягкий запах старого выношенного ситца из бельевого чулана, въедливый запах табака, идущий от свитера из ангорки; запахи лосьона для рук, жареных зеленых перцев и лука; сладкий ореховый запах арахисового масла и бананов, дубовый запах дорогого бурбона, смесь ландыша, кедра, ванили и доносящийся откуда-то запах сушеных роз. Старые, привычные, знакомые ароматы… Конечно, у мамы, Тинси, Ниси и Каро были свои духи. Разные. Но это гамбо[22] их духов. Гамбо я-я. Мой собственный пузырек с духами, который я буду вечно носить в душе.
Все их духи были в одной тональности. И сами они гармонировали одна с другой.
Разумеется, поэтому им было легче забывать и прощать. Не выстраивать денно и нощно отношения, как это делаем сейчас мы. У меня такого никогда не получалось. Мне трудно даже представить такое количество подруг. И все же я своими глазами видела эту дружбу. Обоняла ее.

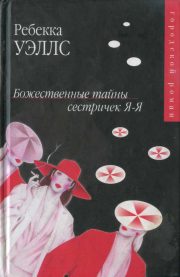
"Божественные тайны сестричек Я-Я" отзывы
Отзывы читателей о книге "Божественные тайны сестричек Я-Я". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Божественные тайны сестричек Я-Я" друзьям в соцсетях.