И тогда Либертен решился на отчаянный шаг. Он предложил девице обвенчаться! Разумеется, делая это предложение, он ни в коем случае не намеревался вправду становиться ее законным супругом, уповая на циничную изобретательность своего приятеля кюре, но девицу это предложение по-настоящему сразило, и она, добрых пять минут приходя в себя от пережитого потрясения, молчала, а затем дрожащим голосом сказала, что намерена испросить благословения своей мамаши.
Помещик, предвидя это намерение, заметил, что ему тоже предстоит разговор со своими родственниками, и кто знает, чем он закончится, посему предложил пока обвенчаться тайно, а затем уже поставить всех в известность как о свершившемся законном акте. Девицу этот довод убедил, и они решили вступить в тайный брак этой же ночью.
Девица поспешила домой готовиться к торжественному событию, а помещик вернулся в церковь, чтобы договориться с кюре.
Выслушав план своего приятеля, священник, к своей чести, в ответ замахал руками, но уже через несколько минут, соблазненный довольно круглой суммой, к своему бесчестью, согласился провести в полночь некое подобие венчального обряда.
Они не предполагали того, что их разговор будет подслушан, что служка спешно оседлает коня и помчится к епископу, что тот поторопится сесть в карету и в сопровождении небольшого отряда своей личной гвардии отправится в это селение…
В полночь в пустой церкви кюре произнес перед мнимым женихом и его невестой вольный набор латинских фраз, после чего сказал, что отныне они могут с чистым сердцем и возвышенной душой исполнять повеление Божье плодиться и размножаться. И лишь только он произнес: «Amen!», в церковь вошли гвардейцы вот главе с епископом в торжественном облачении. Невозможно передать словами выражение лиц помещика и кюре!
А епископ утвердил законность обряда венчания и благословил супружескую чету.
Так бравый Либертен осуществил свое право первой ночи…
Де Лозен церемонно раскланялся в ответ на бурные аплодисменты собравшихся.
— То, что я вам сейчас предложу… — начала Катрин.
— Начало довольно интригующе, — заметил де Грие.
— Всего лишь короткая зарисовка парижской жизни, так густо насыщенной превратностями любви…
— Без которых она была бы отвратительно пресной, — поморщившись, произнес Перро.
8
— На улице Турнель, — начала свой рассказ Катрин, — жил некогда один молодой человек, мечтавший о карьере Буше или Рембрандта. Он снимал мансарду с большими окнами, где устроил себе мастерскую, сплошь завешенную эскизами и готовыми полотнами, пропахшую красками и заставленную гипсовыми копиями шедевров великих мастеров древности.
Однажды в дверь мастерской постучался довольно молодой, но солидный господин, с виду напоминающий удачливого купца или цехового старшину. Господин представился и попросил разрешения ознакомиться с работами. Получив разрешение несколько удивленного хозяина мастерской, он бегло, но внимательно осмотрел его полотна и эскизы, а затем заказал портрет своей супруги.
Художник согласился. Когда они оговорили материальную сторону дела, сроки и дату первого сеанса, заказчик попрощался и уже направился к выходу, но в дверях остановился и сообщил, что не имеет возможности сопровождать жену на сеансы позирования, а потому с ней будет приходить его старшая сестра.
В ответ художник равнодушно пожал плечами, но подумал, что лучше бы приходил он, чем его старшая сестра, скорее всего, иссушенная старая грымза, присутствие которой будет действовать на атмосферу творчества, как уксус на молоко.
Этими мыслями он поделился со своим соседом, магистром Сорбонны, славным малым лет сорока пяти, жившим этажом ниже. Магистр в ответ предложил, в шутку, разумеется, во время сеансов позирования давать грымзе уроки философии. Оба расхохотались, представив себе эту картину, и на том обсуждение этого вопроса закончилось.
Каково же было изумление художника, когда на следующий день к назначенному времени в его мастерскую вошла супруга заказчика, худосочная молодая дама, лет примерно двадцати трех, бледная, томная, с широко раскрытыми синими глазами и тонкими губами, поджатыми в виде бутона тюльпана, которую сопровождала статная красотка лет сорока, не больше!
Молодая дама держалась подчеркнуто холодно, всем своим видом давая понять, что обстановка мастерской вызывает у нее лишь брезгливое отторжение, но она вынуждена пересилить себя, коль это так уж необходимо.
Сестра ее благоверного, напротив, с нескрываемым интересом разглядывала все, что ее окружало, и, как видно, чувствовала себя среди всего этого хаоса вполне комфортно. Вскоре после начала сеанса пришел магистр, который, взглянув на дуэнью, также был поражен столь значительными расхождениями между реальным и ожидаемым. Будучи представленным этому спелому яблочку, он завел разговор о философии, что яблочко восприняло довольно благожелательно.
Художник недовольно заметил, что посторонние разговоры отвлекают его от работы, после чего собеседники перешли на шепот, а затем, стараясь не шуметь, удалились. И тут с моделью произошла неожиданная метаморфоза: лицо молодой дамы оживилось, презрительно поджатые губы сложились в приветливую улыбку, глаза заискрились интересом, а бледные щеки окрасились нежным румянцем.
Как вы вполне можете догадаться, добродетельные дамы и кавалеры, по прошествии двух сеансов молодая дама стала любовницей художника, а еще раньше сестра ее мужа отдалась жизнерадостному магистру Сорбонны. Обе пары вовсю наслаждались жизнью и значительное время после того, как портрет был принят заказчиком, когда однажды, невзначай выглянув в окно, магистр увидел у подъезда человека лет тридцати шести-семи в сопровождении группы вооруженных молодых людей.
Чутье подсказало философу решение: он жестом подозвал к окну свою возлюбленную, и она признала в предводителе маленького отряда своего братца. Нужно было действовать незамедлительно. Философ птицей взлетел на верхний этаж и постучался в дверь мастерской…
Дальнейшие события развивались следующим образом. Разъяренный супруг в сопровождении своих бретеров ворвался в мастерскую и остолбенел, застав там свою обнаженную сестру, позирующую полностью погруженному в свое творчество живописцу.
В это время его супруга выходила из квартиры философа. По пути домой грозный муж, проходя мимо паперти собора Богоматери Парижской, увидел выходящую оттуда свою благоверную. У нее был вид воплощенной добродетели.
В дальнейшем они с мужниной сестрой часто посещали дом на улице Турнель, по дороге решая, кто из них в этот раз навестит художника, а кто — философа…
Рассказ Катрин получил самое горячее одобрение, после чего все взоры обратились к следующему рассказчику.
9
— Речь пойдет, — неторопливо, немного нараспев, будто декламируя стихи, написанные древним гекзаметром, проговорил Арамис, — о двух поэтах Эллады, о тех, которые, возможно, в числе первых воспели любовь и превратности любви, возведя их в ранг объектов самого страстного, самого трепетного поклонения.
Архилох, которого греки почитали вторым поэтом после Гомера, полубогом, в честь которого было воздвигнуто святилище…
Автор таких строк:
…И девушку меж стеблями
Свежераскрывшихся цветов я положил и тонкою
Укрыл нас тканью, шею гладил ей,
И трепетавшей, как лань, успокоенье стал дарить,
И груди стал я трогать нежно пальцами…
Известно, что он страстно влюбился в младшую дочь некоего Ликамба, торжественно поклявшегося отдать за него девушку, о которой поэт писал, что «старик влюбился бы в ту грудь, в те миррой пахнущие волосы…» Она стала для Архилоха богиней и одновременно предметом испепеляющей плотской страсти, доводящей его до исступления.
Но вот случается нечто непредвиденное, невозможное в том мире, где слово успешно заменяло любые письменные соглашения: Ликамб изменил свое решение, нарушил торжественную клятву, отказался выдать за Архилоха свою дочь, которая охотно поддержала отцовское решение.
Оскорбленного в лучших чувствах, доведенного до отчаяния поэта вдруг охватывает нечто, прямо противоположное тому, что он испытывал ранее, и пылкая любовь превращается в столь же пылкую ненависть. Возвышенный и страстный в проявлениях этой ненависти, Архилох посвящает клятвопреступнику и его вероломной дочери стихи, преисполненные таких едких насмешек, что, не вынеся позора, Ликамб и его дочери не нашли ничего лучшего, чем повеситься…
Что ж, крайности всегда схожи, и сильнейшая любовная страсть всегда может легко и быстро превратиться в сильнейшую ненависть, нашелся бы благовидный предлог…
И второй гений античной поэзии — Анакреонт.
Блестящий придворный, любимец бессчетного числа женщин, певец вина, веселья и эротических забав…
Все листья на деревьях
Ты верным счетом знаешь
И на море широком
Все волны посчитаешь,
Сочти ж моих любовниц!
В Афинах для начатка
Ты запиши мне двадцать
И полтора десятка.
Потом считай в Коринфе
По целым легионам:
Уступит вся Эллада
В красе коринфским женам…
Их было бессчетное количество, что, конечно же, не могло предполагать сильных чувств, да и вообще каких-либо чувств.
Но вот пришел час, когда летнее изобилие начало страшиться зимней скудости, что, как в зеркале, отразилось в стихах…
Бросил шар свой пурпуровый
Златовласый Эрот в меня
И зовет позабавиться
С девой пестрообутой.
Но, смеяся презрительно
Над седой головой моей,
Лесбиянка прекрасная
На другого глазеет…
На смену прекрасным девушкам пришли прекрасные юноши, что в том мире отнюдь не считалось чем-то противоестественным, а лишь одним из способов служения богине любви, только и всего…
Теперь стихи поэта обращены к юношам, которых, может быть, было меньше, чем подруг женского пола, но все же…
Ляжем здесь, Вафилл, под тенью,
Под густыми деревами…
Красавец Вафилл был наиболее известным из возлюбленных знаменитого поэта, и его соотечественники даже увековечили Вафилла бронзовой статуей, воздвигнутой в храме Геры.
Еще одна общеизвестная привязанность Анакреонта — фракийский мальчик Смердис, раб и возлюбленный афинского тирана Поликрата. Поэт вступил в открытое соперничество с государем, противопоставляя его власти и богатству свою чарующую поэзию. Заметив, что поэзия одерживает верх, тиран приказал обезобразить мальчика.
Анакреонт написал по этому поводу исполненное тихой грусти стихотворение и отправился на поиски новых превратностей любви…
— Какие у вас обширные знания, мсье Арамис! — восхищенно проговорила Луиза.
— Это всего лишь отрывок из моей богословской диссертации, — скромно заметил мушкетер.
Присутствующие воззрились на него в крайнем изумлении. — Отрывок, который я по зрелому размышлению решил не включать в ее окончательный вариант, — добавил Арамис с самым невозмутимым видом.
10
— А я, — сказала Мадлен, — завершая наш тримерон, хотела бы поделиться одной светлой фантазией, скорее мечтой, о воплощении которой, я думаю, любой из нас попросил бы Всевышнего…
Я представляю себе обворожительную молодую женщину, пылкую возлюбленную и верную жену, безмерно нежную в любви и стойкую в несчастьях… Злобная зависть ущербных и порочных людей, волею рока получивших право распоряжаться чужими жизнями, отнимает у нее любимого мужа, счастье, опору и защиту.
Но высшей справедливости было угодно вынести свой вердикт, согласно которому в костре на Гревской площади вместо мужа этой женщины сгорел труп какого-то бродяги, а сам он отправляется в дальние края, где благодаря великому таланту, мужеству и уму добивается невиданного ранее могущества.
Вся его дальнейшая жизнь посвящена поискам любимой жены, которая, свято веря в справедливость Божью, тоже ищет по свету его, свою единственную любовь. Блуждают они, как потерянные звезды в небесном просторе, испытывая опасности и лишения, но не теряя светлой надежды на встречу… И в конце концов сбываются мечты, и обретают они друг друга, и вознаграждает их Всевышний за терпение, мужество, надежду, веру и любовь…

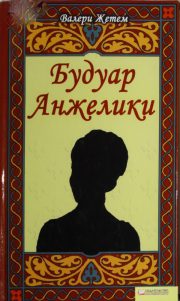
"Будуар Анжелики" отзывы
Отзывы читателей о книге "Будуар Анжелики". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Будуар Анжелики" друзьям в соцсетях.