– Когда мое дело будет закончено… через год…
Ей хотелось услышать еще что-нибудь, но он только поцеловал ее, легким, как птичий пух, поцелуем, и захлопнул за собой дверь.
Патриция поднесла руку к губам – она все еще ощущала на них его прикосновение, потом глубоко вздохнула. Она поднималась по лестнице, словно парила под облаками.
Как чудесно встретить человека, с которым можно поговорить, кого можно послушать; человека, вовсе не заинтересованного в приумножении собственного капитала; человека, настолько не похожего на Дж. Л., настолько не похожего на всех, кто ее окружал.
Она полюбила его. Она была убеждена в том, что по-настоящему полюбила. Том нравился ей во всех отношениях. Возможно, все произойдет уже при следующем свиданье. Да. Когда он вернется из Ливана нынешней осенью, она пригласит его к себе на ферму, – а ведь на свете нет лучшего места для того, чтобы предаться чуду любви.
Глава II
Серебристый изящный «феррари», то вписываясь в поток автомашин, то вырываясь из него, мчался по оживленной дороге № 249, ведущей в Долину миндаля, к северу от Лиссабона. Эмилио Фонсека, положив руку в кожаной перчатке на руль, умело вел машину, его взгляд был устремлен прямо вперед. Мигель Кардига сидел на пассажирском сиденье.
– Не слишком-то нажимай на старика, Мигелино, – он вовсе не такая дрянь, как ты это расписываешь.
– Но он проделал все у меня за спиной!
– Не криви душой. Ты отказался от коня, поэтому он его и продал.
– Но это был лучший конь из всех, каких мне довелось готовить!
– Так попроси его приостановить эту сделку.
– Попросить его? Может быть, даже начать умолять? Чтобы снова оказаться у него под башмаком? В этой его долбанной школе для богатых толстух?
Машина свернула на трехрядную гравиевую дорогу, ведущую к Учебному центру верховой езды семейства Кардига.
– Мигелино, тебе хочется перестать томиться у него под башмаком? Тогда вернись на арену. Возврати себе славу матадора.
Лицо Мигеля побелело, челюсть напряглась, он мрачно посмотрел на лучшего друга.
– Я тебе, Эмилио, сотню раз повторял – я не могу. Просто не могу!
– Ну, ладно, ладно… – Эмилио успокаивающим жестом положил Мигелю руку на плечи. – Но мне будет не доставать тебя, дружище. Что ж, удачи тебе!
– А разве ты не будешь приезжать ко мне в гости?
– Разумеется, как только ты опять разругаешься с отцом и я тебе понадоблюсь – позвони.
Включив на полную мощность мотор, он поехал прочь.
Когда Мигель проходил по крытому булыжником двору, его сапоги издавали странный аритмический стук, один каблук ударял по земле тверже другого. Филипе, один из помощников отца по школе, радостно приветствовал его.
– Как хорошо, что вы наконец вернулись, сеньор Кардига! Вернулись туда, где вам и нужно жить!
Мигель не без тайной боли отметил, как мучительно старается юноша смотреть ему прямо в глаза, тщательно избегая при этом взгляда на ноги. Но Филипе оказался не в состоянии совладать с собой: на мгновенье он скосил глаза вниз – и сразу же отвел их судорожным движением, заставившим дернуться всю голову.
Мигель громко усмехнулся. Наверное, ему никогда не привыкнуть к этим вороватым взглядам. Он притерпелся к ним только потому, что худшее осталось уже позади.
Самый мучительный момент настал на следующий день после случившегося с ним несчастья, когда он открыл глаза в больничной палате и обнаружил у постели архиепископа и врача, причем на лицах у обоих можно было прочесть откровенную жалость. Архиепископ склонился к нему и осенил его крестным знамением, бормоча по-латыни слова какой-то молитвы. Мигель заморгал.
Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем заговорил доктор:
– Сеньор Кардига, я приложил все силы… но выбора не было… мне пришлось ампутировать вам левую ногу…
Холодный пот прошиб Мигеля, по спине у него побежали мурашки, нервные окончания замерли, мозг застыл, сосредоточившись на одном-единственном слове «ампутировать».
А голос доктора звучал, казалось, откуда-то издалека.
– … к счастью, если это выражение здесь уместно, нам удалось провести ампутацию в области несколько ниже коленного сустава…
Мигель не слушал – в каждой клеточке его мозга оглушительно гремело слово «ампутировать», уничтожая смысл всех остальных слов разом.
Архиепископ еще раз осенил его крестным знамением, пробормотал благословение и вместе с доктором спокойно вышел из палаты.
Это было неправдой. Это не могло быть правдой. У него не могли отнять ногу – ведь он даже чувствовал, как на ней чешутся кончики пальцев. Хотя он и не осмеливался почесать их. Долгое время он пролежал в неподвижности с закрытыми глазами. Затем медленно присел в кровати, все еще не открывая глаз, потянулся к левой ноге и осторожно стал ощупывать ее. Казалось, прошла целая вечность, пока рука скользила по здоровой части ноги, но наконец уткнулась в матрас. Хотя зуд в кончиках пальцев по-прежнему не оставлял его. Мигель заставил себя открыть глаза и увидел собственную руку, упершуюся в кровать. И тогда он понял, что остался без ноги.
На протяжении нескольких недель он лежал в глубокой депрессии, не отвечая на телефонные звонки, отказываясь принимать посетителей, включая даже Эмилио. Но целая армия докторов и сиделок не смогла бы помешать Пауло Кардиге увидеться с собственным сыном.
Он ворвался в палату – мышцы лица дрожали от сдерживаемого напряжения. Мигель никогда не видел отцовского лица таким пепельным – почти одного цвета с седыми волосами, – никогда не видел ледяных синих глаз, пылающих таким гневом.
– Врачи говорят мне, что раны моего сына зажили, но он отказывается пошевелиться. Они уверяют меня, что мой сын пребывает в ступоре, что он утратил малейшую волю к жизни.
Мигель молча смотрел на отца.
– А я сказал им, что они самым нелепым образом ошибаются! Мой сын – человек из рода Кардига. В груди у него стальная пружина. Он готовится к предстоящей битве…
– Я готовлюсь к смерти.
– Не смей говорить так!
Пауло едва владел собой.
– Мне незачем жить.
– Выкинь такие мысли из головы! Ты уже достаточно отдохнул – пора браться за дело.
– Ты жесток, – кротко возразил Мигель.
– Я не собираюсь миндальничать с собственным сыном. Ты опять сядешь на коня!
– Ты сошел с ума! Я калека!
– А я говорю, сядешь!
– Ты что, оглох? – закричал Мигель. – Повторяю тебе: я калека! – Он откинул простыню и выставил на обозрение отцу свою культю. – Вот, глянь-ка!
Пауло с неожиданной нежностью прикоснулся к искалеченной ноге и не произнес ни слова. Мигель закрыл ногу простыней.
– Всю жизнь меня преследовала мысль о том, что я – второй сорт, что ты сильнее меня во всем, – и эта мысль была мне ненавистна. Ну, а на что я гожусь теперь, с этой культей?
– На то, чтобы стать лучше всех, – спокойно и серьезно произнес Пауло, его недавний гнев бесследно исчез.
– Ага, лучше всех остальных одноногих наездников в истории человечества, – хмыкнул Мигель.
– Мигелино, ты мне нужен в Центре…
– Чтобы ты вновь вил из меня веревки?
Пауло, вздохнул, положил на ночной столик сына небольшую книжицу.
– Почитай Боше…
Мигель не обратил на маленький томик внимания, причем – совершенно сознательно.
– Он был самым высокочтимым мастером верховой езды восемнадцатого столетия.
– И что же, он учит, как ездить на лошади одноногому?
– Не исключено – ведь у него были парализованы обе ноги. – Пауло, тяжело ступая, подошел к двери. Затем обернулся. – До скорой встречи, сын.
И тут Мигель осознал безысходность своего положения. На лице у отца он увидел то же самое выражение, что и у архиепископа с доктором в день, когда пришел в себя после операции. Всю жизнь он боролся за то, чтобы увидеть на лице у отца восхищение собственным сыном и почтение перед ним, – а увидел сострадание. Дверь захлопнулась.
Мигель откинулся головой на подушки и закрыл глаза, пытаясь сдержать вот-вот готовые вырваться наружу слезы. Он ненавидел их. Он терпеть не мог жалость к себе со стороны других, но и пожалеть самого себя было бы для него невыносимо. Но на этот раз он не смог с собой совладать: это было сильнее его. Слезы хлынули.
И тут в душе у него вспыхнула ярость – и на отца, и на себя самого. Схватив со столика кувшин с водой, он запустил им в экран установленного рядом с кроватью телевизора. Кинескоп разлетелся вдребезги, осколки усеяли всю палату. Сиделка примчалась на шум – и, разинув рот, увидела, как Мигель, схватив стул, кидает его в окно. Троим здоровым мужчинам пришлось держать его, пока сиделка делала ему в руку укол транквилизатора. И последним, что ему запомнилось, было выражение жалости у нее на лице.
Его следующее воспоминание было связано с приходом в палату Эмилио. Друг принес с собой большой бумажный пакет, из которого с великими церемониями извлек две бутылки вина. Периквита урожая 1938-го года! Мигелю было известно, что в знаменитых винных погребах семейства Фонсека хранилось всего три ящика этого, самого лучшего на свете, вина. Члены семьи Фонсека сошлись на том, что можно – в особо торжественных случаях – открывать по одной бутылке, но не чаще, чем раз в пять лет. А тут Эмилио принес ему сразу две!
Не говоря ни слова, лишь как-то по-дурацки ухмыляясь, Эмилио откупорил обе бутылки, подал одну Мигелю и сам сделал глубокий глоток из другой.
– Будем! – Он вытер рот тыльной стороной ладони, наклонился к Мигелю и шепнул ему на ухо. – Да пошли они все…
В первый раз после несчастного случая Мигель рассмеялся, а потом поднес бутылку ко рту.
Они долго пили и разговаривали, и когда в обеих бутылках не осталось ни капли, Мигель пообещал поселиться у Эмилио на фамильных виноградниках, разбитых на полуострове Аррабида.
Через пару дней здешние доктора с великим облегчением выписали из больницы самого трудного пациента. Эмилио выкатил Мигеля в кресле, усадил его в «феррари» и позволил ему бросить беглый взгляд на торчащий из багажника протез – сложную конструкцию из металла, дерева и проволоки, которую Мигель возненавидел с первого взгляда и к которой категорически отказывался даже прикоснуться.
Дом Эмилио, который он не без гордости величал Кастело де Аррабида, или Аррабидский замок, был построен в пятнадцатом веке и служил охотничьим домиком короля. Эмилио купил его несколько лет назад, повинуясь внезапному романтическому порыву. Мигель шутил тогда, что Эмилио вправе гордиться античной первозданностью тамошних устройств, в особенности – водопровода, но тот мало-помалу очистил крышу от голубиного помета, восстановил на потрескавшихся стенах прежние замечательные фрески и превратил развалины в весьма комфортабельную обитель. И сейчас Мигель обрадовался, увидев, как три дынеобразных купола на трех башнях домика показались за поворотом дороги.
Едва успел Эмилио, с помощью садовника, поднять Мигеля по каменной лестнице на второй этаж замка, как друзья опять принялись пить.
Эмилио, вскрыв еще один ящик редкого вина, прилагал все старания, чтобы вывести друга из депрессии, прибегая ко всевозможным уловкам, лишь бы заставить его рассмеяться. И иногда ему это удавалось. Однако по большей части Мигель только то и делал, что напивался до бесчувствия. Он сидел в лоджии второго этажа, тупо уставившись на круг для верховой езды, – на тот самый круг, на котором некогда начиналась его карьера матадора, на котором он впервые забавлялся, дразня молодого рогатого бычка под одобрительные возгласы Эмилио. В такие дни он спал до обеда, а затем до самого вечера боролся с похмельем, дожидаясь, пока не вернется с виноградников Эмилио.
Во время одной из вечерних попоек Эмилио убедил его все же примерить ненавистный протез, и начиная с этого дня Мигель иногда стал выбираться из дому – мучительно простукивая своей новой конечностью площадку перед замком – и доходил до длинного, крытого черепицей строения с воротами в форме арки, которое Эмилио использовал под конюшню. Хотя и поклявшись себе никогда больше не садиться в седло, Мигель был не в силах навеки проститься с лошадьми. Он чувствовал себя с ними куда лучше, чем в человеческом окружении.
Прихрамывая, он проходил в стойла. Лошади начали понемногу признавать его и, при появлении Мигеля, высовывали морды в отверстие над яслями, приветствуя его. И для каждой из них у бывшего наездника находилось какое-то особенное пошлепыванье по крупу, какая-то особая ласка. В его мягком, больше похожем на шепот, голосе сквозила нежность, привязанность, какой он не питал – и не выказывал – бесчисленным женщинам, попадавшимся ему на жизненном пути.
Эмилио несколько раз пытался уговорить его сесть в седло, но Мигель оставался непоколебимым – на лошадях он больше ездить не будет. Он даже отказался давать Эмилио какие бы то ни было советы, связанные с подготовкой скаковых лошадей. Но однажды он появился на круге для верховой езды, с бокалом вина в руке, встал, прислонившись к сетке. Эмилио как раз пытался заставить коня исполнить пируэт, который, однако же, ему не удавался.

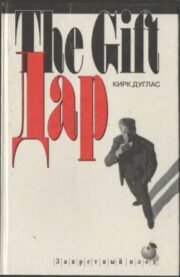
"Дар" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дар". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дар" друзьям в соцсетях.