На костре Ридли дрогнул и закричал от боли. «Возвеселись, мастер Ридли, и будь мужчиной, — окликнул его Латимер. — Сегодня с Божьей помощью мы запалим в Англии такую свечу, какую им никогда не погасить!»
Их останки еще не остыли, а слова эти уже распространились по Англии со скоростью лесного пожара. Все рыдали и дивились, что королева сожгла таких людей. Если рука, державшая этот факел, запалившая этот костер — рука Матери-Церкви, то она — чудовище, а не мать, и все в ужасе отшатывались от нее. Однако Мария не отступала от своего замысла, питала огонь дрожащей, трепещущей плотью, чтобы выслужить себе сына.
Королева зачала в сентябре, и зачала мальчика — в этом были уверены и доктора, и бабки, и звездочеты. На радостях королева простила своих врагов и теперь преследовала лишь Божьих.
Вот почему Робин остался жить, впрочем, как и я, пленником, в Тауэре. А Кэт, моя верная Кэт, как я слышала, без устали писала королеве письма с просьбами дозволить ей вернуться ко мне. Сесил исхитрился дважды прислать серых, как тени, призрачных гонцов — они возникали передо мной и исчезали раньше, чем кто-либо успевал заметить среди слуг лишнего. Каждый раз послание состояло из одного слова: мадам, покоритесь! Если любите жизнь, покоритесь!
Покоритесь.
Покоритесь.
Слово, которое не сходило с королевиных уст.
Трудно было бы выразиться яснее. Отрекитесь от своей веры, ступайте к обедне, исповедуйтесь и причаститесь по римскому обряду — или цепляйтесь двумя руками за свой мученический венец и готовьтесь к смерти!
Душою бы я, наверно, в конце концов приготовилась, но телом… не к такой смерти, не к костру, о, Господи, не допусти! А поскольку я по-прежнему тряслась по ночам при воспоминании о том, как близко от меня прошла секира Смерти в ту последнюю ночь в Тауэре, я даже во сне не могла увидеть ее длинных костлявых пальцев и безглазого черепа, надвигающихся на меня из языков пламени, без того, чтобы с криком проснуться после беспокойного забытья.
И вот весь этот год Мария прибывала в теле, раздувалась, как майский жук, от крови мучеников. А супруг ее, Филипп, оставался при дворе, чтоб дождаться рождения сына, прежде чем отбыть в свои земли. А пока он ждал, у него было время поразмыслить, и немудрено, что мысли его обратились к свояченице. Они явились ко мне самым беспардонным образом в обличье Бедингфилда, который постучался ко мне погожим апрельским днем и огорошил словами:
«Мадам, завтра мы отбываем к королеве в Гемптон-корт. Король пожелал, чтобы вы были с королевой, когда придет ее срок родить».
Было пятое воскресенье поста, называемое Страстным, и я терзалась всеми возможными страстями: носилки томительно ползли на юг, а мысли мои метались, как угодившая в ловушку крыса, и искали, искали выхода.
Когда королеве придет срок родить…
Что ждет меня в том будущем, где я окажусь всего лишь теткой, — нет, даже не так, ведь Мария отказывается признавать меня сестрой, — скажем так, побочной теткой юного принца?
Если это будет принц.
И если он выживет.
А выживет ли?
А Мария?
Что, если они оба умрут?
Что, если?..
Мне следовало бы за нее молиться.
И за него.
Но о чем молиться — о жизни или о смерти — и для кого, для ребенка или для матери?
Одно смущение от этих мыслей.
Тогда остается Филипп.
Зачем он послал за мной? Из соображений государственных, из расчетливого желания присмотреть за младшей сестрой на случай, если умрет старшая? Тогда он будет регентом при ее сыне, однако новый мятеж может посадить на престол меня и оставить его ребенка ни с чем.
Или ему просто любопытно взглянуть на свояченицу, которую жена так ненавидит, и, если верить словам Марии, главную врагиню всего, что они любят и чтут в этой жизни?
И это притом, что ей ничего не грозит с моей стороны. Боже Милосердный, дочь короля едет ко двору с жалкой горсткой джентльменов и без единой сопровождающей дамы? Я, для которой почетный караул выстраивался во всю длину Уайт-холла! Да с последним нищим дворянчиком из последней собачьей дыры, едущим ко двору в надежде стяжать почет и богатство, обошлись бы лучше! Я чувствовала это, еще как чувствовала! Если дорогая сестрица хотела уязвить мою гордость, видит Бог, она своего добилась!
Однако когда мы добрались наконец до Гемптон-корта, нас почти никто не заметил, а если и заметили, то не обратили внимания.
Даже ворота стояли без присмотра, только один несчастный парнишка встретил нас словами (похоже, он позабыл остальные): «Принц, принц рождается! У королевы начались схватки, принц родится сегодня!»
Двор был перевернут вверх дном, все носились как угорелые, слуги успели перепиться из бочек, которые заранее выкатили и откупорили в предвкушении торжества.
— Куда нам идти? Кто будет надзирать за принцессой?
Посреди этого столпотворения Бедингфилд чуть не умер от тревоги. Только тогда, когда я, устав от его дурости, торжественно поклялась, что не сбегу, он перестал суетиться и отправился узнать, где нам разместиться. Мои покои были невелики, но после Вудстока и они казались дворцом; анфилада пристойных, если не роскошных покоев с видом на пойму, и несравненный Гемптонский парк.
Разумеется, неотступная стража тут же заняла место у моих дверей. Однако здесь, в сердце двора, она пугала меня куда меньше, чем в Тауэре. Никто не посмеет разделаться со мной на глазах у отцовских лордов, тех, кто меня знает. А устроившись, я могла только ждать.
Как ждала Мария — рождения принца.
Схватки продолжались трое суток. Я молилась о ней день и ночь, но новостей все не сообщали. Вдруг утром шум в дверях, Вайн не успевает вскочить и объявить посетителя, в покой влетает Сусанна Кларенсье, первая фрейлина и правая рука королевы.
Не знаю, что меня поразило больше — ее лицо или то, что она несла в руках. Несмотря на фамилию, полученную от нормандских предков, Кларенсье была англичанкой до мозга костей — от лошадиного лица до выражения надменной сдержанности. Сейчас ее тяжелая нижняя челюсть была серой, губы плотно сжаты, в то время как красные глаза и опухшие веки говорили о проведенной в слезах ночи. Через руку у нее было переброшено пурпурное платье, судя по богатству отделки — королевино.
— Мадам! — прошептала я, склоняя голову. Я боялась говорить.
— Миледи! — Кларенсье присела в безупречном истинно английском реверансе. Я набрала в грудь воздуха:
— Как ваша госпожа… как королева?
Она подняла голову, глаза ее были пусты.
— Спасибо, мадам, неплохо. Она хочет, чтобы вы надели это платье вечером, когда она пришлет сообщить вам следующее свое пожелание.
Она снова сделала реверанс и вышла.
Значит, принц умер?
Или родился уродцем, злой шуткой Природы? Неужто королева произвела на свет недоделанное нечто, кусок мяса в форме трилистника без рук, шеи и глаз? Кэт рассказывала, что с пожилыми роженицами, вроде Марии, такое случается. Или она на старости лет разрешилась толстощеким идиотом с пятачком, как у свиньи, и свинячьими глазами-щелочками?
Кларенсье ушла, я осталась наедине со своим мучительным любопытством. Однако Мария по-прежнему королева, ее приказы надлежит исполнять. Мне велено надеть это платье? Что ж, надену.
И пусть ни одна из криворуких паписток, которых она ко мне приставила, не умела убрать волосы, или пристегнуть рукав, или прицепить шлейф… шлейф? Единственное, на что способны были эти ненавистные уродины, так это выбрать чистую сорочку. А платье с Марииного плеча резало мне под мышками, давило в груди и было ужасно коротко, как ни тянули они его вниз, приговаривая: «Отлично сидит на вас, мадам!» Но все равно это было пышное платье дивного цвета; я оглаживала яркий царственный пурпур, чувствовала под ладонью ласковый щекочущий бархат, и в голове стучала непрошеная подлая мысль: «Если б я была королевой…»
Если б я была королевой, я б не вышла за такого короля.
Когда умер его отец, он стал одним из величайших королей в истории, по титулам, землям, богатству. Однако когда он вошел в мою дверь тем майским вечером, он был всего лишь самим собой — тщедушным, рыжеватым, заносчивым коротышкой, как все Габсбурги, который мнит о себе невесть что. Да, верно, он был умнее Марии, так ведь невелика хитрость! А тщеславие всегда делало Филиппа уязвимым, хотя он сам этого не замечал.
— Мадам, король! Король пришел вас посетить.
Это было уже слишком для моего бедного Вайна — король Англии и Его Католическое Величество король Испанский входит в мои покои без объявления и почти без всяких почестей.
Я тоже, должна сознаться, была в ужасе. Я думала, Мария послала платье, чтобы я принарядилась для встречи с ней — насколько же в ее духе желать, чтобы я принарядилась для встречи с ним, с человеком, чью любовь она вознамерилась во что бы то ни было заслужить!
Однако он — что он делает здесь? Какие мысли шевелятся за этими бледными, маленькими, бесчувственными глазами и выдвинутой габсбургской челюстью? Я сидела и ждала обещанных Кларенсье распоряжений Марии, но тут же вскочила и присела в реверансе.
— Ваше Величество!
Он шагнул вперед. Кроме двух телохранителей, с ним был еще один человек, в котором я угадала его ближайшего советника, Ферию, а за Ферией — красивый молодой дон, по всей видимости — адъютант. Рядом со своими высоченными спутниками Филипп выглядел козлом рядом с жеребцами. Однако что-то в его облике приковало мой взор и…
…да, да, что греха таить? — зажгло мою кровь.
Хотя я всегда любила высоких, красивых, статных, однако порой мужчина, чьим единственным достоинством был такой вот жаркий взгляд, мог разжечь во мне пламень — как тогда он…
Я понимала, что он это увидел, хотя в то же мгновение потупила взор. Тонкие губы над аккуратной раздвоенной бородкой сложились в едва заметную улыбку. Он поклонился, взял меня за руку:
— Добрый вечер, миледи!
Он говорил с сильным испанским акцентом, я видела толстый розовый язык, который, казалось, заполнял весь рот. Он поднес мою руку к губам, пушистые усы задержались на тыльной стороне моей ладони. Я попыталась отнять руку, он не отпускал. Кивнул Ферии.
— Мой посол. Он говорит ваш английский.
Посол улыбнулся масляной улыбкой:
— Его Величество желают знать, мадам, habla Espano? Вы говорите по-испански?
— Увы, нет, сэр, ни слова.
Филипп довольно фыркнул:
— Мuy bien! Очень хорошо!
Что он хочет сказать такое, что не предназначается для моих ушей?
Он большим пальцем погладил мою ладонь — случайно или нарочно, чтобы разжечь между нами огонь? Я наградила его долгим спокойным взглядом, бесстрастным, как само целомудрие. Он выпустил мою руку, сказал Ферии:
— Мuy calmada — она очень спокойна.
Как может он тут стоять и болтать ни о чем? Я больше не могла сдерживаться:
— Сеньор посол, простите сестринское нетерпение… я не хотела бы быть непочтительной к королю, но умоляю вас сказать, как королева?
Быстрый взгляд на хозяина, короткий обмен испанскими репликами, дозволение на ответ.
— Неплохо, — осторожно ответил он, — по воле Божьей. Схватки прекратились, благодарение Богу, ибо, родись принц сейчас, он появился бы на свет восьмимесячным и вряд ли бы выжил.
Хорошая это весть или плохая? Пока принца нет — но не случилось и выкидыша, который расчистил бы мне путь…
Ш-ш, прочь подобные мысли, Филипп говорит, и я понимаю. «Мне сказали, что дух ее полон очарования! Но теперь я различаю под ее спокойствием женскую страстность… и свечение вокруг нее, как от морской воды…»
Ферия ощетинился.
— Немудрено, ведь она — дочь потаскухи, как говорит королева, зачатая в непотребстве, от связи матери с простолюдином…
Филипп стиснул рукой тяжелый подбородок.
— Королева — дура! — припечатал он. — Одноглазый увидел бы, что она — Генрихово семя, взгляните на ее прирожденную царственность Иначе ее можно было бы счесть подменышем… — Он деланно рассмеялся, переступил с ноги на ногу. — Вы, чего доброго, подумаете, что я влюбился.
— Нет, сэр, нет.
Однако я читала в его глазах — да!
Глава 19
Если он читал в моих глазах, то и я читала в его; и даже больше, чем скупые жаркие зрачки, говорило мне его тело, которое напряглось, как у терьера при виде крысы, переминание с одной ноги на другую, означавшее, что между ними шевелится третья, невидимая…
Однако меня влекло и другое — его змеиный ум, его двуличный дух, искушенный в лукавстве с тех самых пор, как иезуиты научили его говорить:
«Si — е tambien no, да — и, ну, нет». А больше всего меня привлекала в нем глубокая потаенная печаль. Причину этой неизбывной грусти мне еще предстояло выяснить, однако я ощущала на себе ее чары. А каждая женщина мечтает исцелить в своем мужчине тоску.

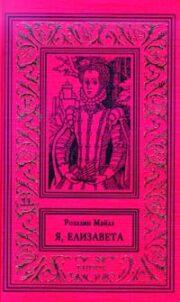
"Девственница" отзывы
Отзывы читателей о книге "Девственница". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Девственница" друзьям в соцсетях.