Седьмая глава продолжалась в том же духе – в ней подводились итоги жизни и карьеры Рэдклиффа, причем Гилберт не побоялся предложить свое ви́дение событий: художник погиб вовсе не от тоски по своей нареченной, а потому, что не смог перенести разлуки со своей музой и единственной настоящей любовью – Лили Миллингтон. Основываясь на «ранее неизвестных» полицейских отчетах, Леонард Гилберт выдвинул теорию о том, что натурщица была сообщницей грабителя, застрелившего Фрэнсис Браун, а позже сбежала с ним в Америку, прихватив наследную драгоценность Рэдклиффов.
Официальная версия, утверждал Гилберт, своим широким распространением обязана самим Рэдклиффам. Влияние их в округе Берчвуд-Мэнор было настолько велико, что отразилось даже на полицейском расследовании: члены семьи приложили много усилий, чтобы замять происшествие с «этой женщиной, которая разбила сердце Эдварду Рэдклиффу». В этом их поддержали родственники убитой невесты, также хотевшие, чтобы все забылось как можно скорее. Оба семейства надеялись войти в историю и хотели предстать перед потомством как герои трагедии, а не скандала; вот почему они предпочитали официальную версию о грабителе, который пробрался в дом, похитил камень и случайно застрелил Фрэнсис Браун, что потом привело к смерти ее жениха. Пропавшую подвеску искали, но, кроме пары-тройки ложных следов, ничего не нашли.
Теорию о причастности Лили Миллингтон к краже Гилберт излагал совершенно в ином тоне, чем все остальное: он писал механически, словно по затверженному, чему немало способствовало обширное цитирование материалов дела, обнаруженных им в полицейских архивах. Как исследователь, Элоди хорошо понимала нежелание Гилберта верить в предательскую натуру женщины, которую он сам с такой любовью вызвал к жизни на страницах своей книги. При чтении этой главы казалось, что две полярные стороны характера одного человека вступили в смертельную схватку: честолюбивый ученый, сделавший опьяняющее своей новизной открытие, боролся с писателем, полюбившим свою героиню, чей образ он так долго и кропотливо создавал. И еще это лицо. Ведь женщина с портрета в серебряной рамке сразу же запала в душу и ей, Элоди. Строго напоминая себе о той опасной власти, которую красота имеет над душами людей, она все равно не верила, что женщина в белом была способна на такое вопиющее двуличие.
Гилберт явно не желал верить в причастность Лили Миллингтон к исчезновению подвески, но все же уделил место описанию самой пропажи, причем выяснилось, что камень был далеко не рядовой драгоценностью. Оказалось, это голубой бриллиант весом в двадцать три карата, настолько редкий, что он даже имел имя: «Синий Рэдклифф». Свое происхождение подвеска вела от Марии Антуанетты: именно для нее голубой бриллиант был впервые взят в оправу. Однако история самого камня уходила куда дальше – некий Джон Хоквуд, наемник, завладел им в четырнадцатом веке во Флоренции, куда наведался для разбоя и грабежа, и так прикипел к камню, что не расстался с ним и на смертном одре, где лежал, как написал о нем один современник, «с богатствами и почестями». Но первый след камень оставил еще раньше, в десятом веке, в Индии, где, по одному свидетельству – недостоверному, как считал Гилберт, – был похищен странствующим купцом со стены индуистского храма. Так или иначе, когда в 1816-м камень попал к Рэдклиффам, его поместили в золотую филигранную оправу и повесили на тонкую и короткую цепочку, так чтобы он лежал как раз в яремной ямке на шее. Красивая, конечно, вещь, но уж слишком привлекательная для грабителей, а потому почти все то время, что Рэдклиффы владели бриллиантом, он хранился в их сейфе у Ллойда, в Лондоне.
История «Синего Рэдклиффа» не особенно заинтересовала Элоди, зато, прочитав следующую строку, она едва не подпрыгнула на месте. По словам Гилберта, Эдвард Рэдклифф извлек драгоценность из банковского хранилища именно летом 1862-го, чтобы его натурщица могла надевать подвеску, с которой он собирался писать ее на своей новой картине; завершить работу он планировал к концу летнего сезона. Так, значит, картина, которую историки и любители искусства по всему миру считали мифом, страстно желая при этом увидеть, все же была написана!
Во второй половине седьмой главы обсуждалась возможность существования этой картины, в законченном виде или в каком-либо ином. Гилберт выдвигал несколько теорий, основанных на изучении творчества Эдварда Рэдклиффа, но в конце все же признавал, что без документальных подтверждений все это не более чем гипотезы. И хотя другие члены Пурпурного братства в своей переписке не раз упоминали неоконченное полотно Рэдклиффа, сам художник, по всей видимости, хранил о нем полное молчание.
Взгляд Элоди скользнул к альбому, найденному в архиве. А что, если в нем как раз и содержится то доказательство, которое тщетно искал Леонард Гилберт? Неужто подтверждение, которого так долго жаждал весь художественный мир, все это время лежало себе тихонечко в кожаной сумке, в доме Джеймса Стрэттона, видного социального реформатора Викторианской эпохи? Эта мысль заставила Элоди снова задуматься о Стрэттоне, ведь теперь ей было известно, что звено, которое связывало его с Эдвардом Рэдклиффом, носило имя Лили Миллингтон. Стрэттон знал Лили настолько хорошо, что даже хранил у себя ее фотографию; Рэдклифф был в нее влюблен. Между собой эти двое не были близко знакомы, по крайней мере на первый взгляд, и все же именно к Стрэттону Рэдклифф пришел посреди ночи, когда неутолимая сердечная тоска выгнала его из дому. И видимо, именно Стрэттону Рэдклифф отдал на хранение наброски своего великого, но так и не созданного полотна. Но почему? Надо полагать, ответ на этот вопрос крылся в личности Лили Миллингтон. Имя было незнакомо Элоди, но она подумала, что надо проверить его на всякий случай по компьютерной базе стрэттоновской переписки.
В последней главе вновь шла речь об интересе Рэдклиффа к домам, и особенно к дому на Темзе, названному им «зачарованным домом… уютно устроившимся в собственной излучине реки». Так Гилберт закольцевал композицию книги, перебросив мостик от жизни своего героя к собственной жизни. Оказалось, что Гилберт провел в «зачарованном доме» Рэдклиффа целое лето и, заканчивая там свою диссертацию, буквально дышал тем же воздухом, которым некогда дышал хозяин дома.
Леонард Гилберт, солдат Первой мировой, потерявший на полях сражений во Франции тех, кто был ему дорог, с грустью, которую порождает только опыт, писал о том, какие страдания доставляет человеку ощущение оторванности от своего мира. И все же его книга заканчивалась долгим и оптимистическим рассуждением о возвращении «домой» и о том, что это значит – оказаться в уютном и защищенном месте после долгих скитаний по пустыне. Себе в союзники он взял современника Рэдклиффа, великого викторианца Чарльза Диккенса, который проникновенно и просто написал о том, что такое «дом» в жизни человека: «И хотя дом – это лишь слово, лишь имя, но оно сильно; сильнее любого заклинания, какими призывают к себе духов волшебники…» Для Эдварда Рэдклиффа, писал Леонард Гилберт, таким домом был Берчвуд-Мэнор.
Элоди еще раз перечитала эту строчку. Значит, у дома было имя. Она впечатала его в поисковую строку телефона, нажала кнопку «ввод», затаила дыхание и… вот оно! Снимок, описание, адрес. Дом стоял на границе Оксфордшира и Беркшира, в долине Белого Коня. Нажав на одну из выпавших ссылок, она узнала, что дом был подарен Ассоциации историков искусства в 1928 году, причем дарительница, Люси Рэдклифф, поставила условие – использовать его для проживания стипендиатов ассоциации. Когда затраты на содержание особняка стали чрезмерными, пошли разговоры о превращении дома в музей Эдварда Рэдклиффа и Пурпурного братства, под эгидой которого наблюдался невиданный расцвет искусств, однако и на этот проект деньги нашлись не сразу. Пожертвования собирали много лет, пока наконец в 1980-м щедрый взнос от неизвестного жертвователя не позволил АИИ воплотить планы в жизнь. Так что теперь в доме был музей, открытый для широкой публики по субботам.
Дрожащими руками Элоди прокрутила веб-страницу до конца и ткнулась в пометку «Контакты». Открылась новая фотография, где дом был снят в ином ракурсе, и Элоди увеличила ее на весь экран. Скользнув взглядом по саду, по кирпичному фасаду за ним, по слуховым окнам под островерхой крышей, она затаила дыхание…
И тут картинка исчезла, сменившись оповещением о входящем звонке. Звонок был международным – Алистер, – но Элоди, сама не зная зачем, нажала кнопку отмены и смахнула оповещение с экрана, чтобы опять вернуться к снимку дома. Увеличила картинку еще больше, прицелившись в одно конкретное место, пригляделась – и точно, вот же он: флюгер с изображениями луны и солнца!
Значит, Рэдклифф рисовал свой собственный дом, укрытый в собственной излучине реки, и одновременно это был дом из сказки, которую рассказывала ей в детстве мать, и дом, где Тип жил с семьей в эвакуации во время Второй мировой. Семья Элоди была каким-то образом связана и с домом Рэдклиффа, и с той тайной, к которой она случайно прикоснулась на работе. Странно, пожалуй, даже невероятно, и все же это было так, ведь Тип, сколько бы он ни отнекивался, явно узнал ту женщину по имени Лили Миллингтон.
Элоди взяла в руки фото в рамке. Кем она была? Как ее звали по-настоящему и что с ней все-таки случилось? По непонятным причинам Элоди вдруг ощутила отчаянное, жгучее желание найти ответы на эти вопросы.
Она опять пробежала пальцами по краю рамки, ощупала еле заметные царапины. И вдруг заметила, что задник с ножкой-подставкой не совсем плоский, не такой, как передняя часть. Повернув рамку тыльной стороной вверх, она поднесла ее к глазам, чтобы та оказалась прямо на уровне зрачков; и точно, выпуклость, небольшая, но заметная. Элоди слегка надавила на нее кончиками пальцев. Ей лишь кажется или там действительно что-то есть, какая-то небольшая подушечка?
По тому, как учащенно забилось ее сердце, Элоди, с ее тренированным чутьем охотника за сокровищами, поняла, что не ошиблась, и, хотя это было против правил, завертела головой в поисках того, чем можно вскрыть рамку, не оставив на ней следа. Потом потянула за уголок липкой ленты, которой когда-то проклеили тыльную сторону, и та подалась, – видимо, лента давно утратила липкость и держалась на месте только по привычке. Внутри обнаружился клочок бумаги, свернутый вчетверо. Одним уголком он был вставлен в нижний край. Элоди аккуратно высвободила его, развернула и сразу поняла – листок очень старый.
Это было письмо, написанное красивым летящим почерком, и начиналось оно так: «Мой дорогой, любимый и единственный Дж, то, что я скажу тебе сейчас, – мой самый большой секрет…» У Элоди даже дух захватило: вот, наконец голос той самой женщины в белом. Скользнув глазами по строчкам, она уставилась на украшенную парой завитушек-инициалов подпись: «Вечно тебе благодарная и неизменно любящая тебя, ББ».
Часть вторая
Особые люди
Долгое время, до того как Ассоциация историков искусства открыла здесь музей и до того как появился нынешний гость, в доме никто не жил. Приходилось лишь изредка довольствоваться компанией ребятишек, которые в будние дни прибегали сюда и забирались в окна первого этажа, чтобы показать своим друзьям, какие они храбрые. Иногда я им подыгрывала, если была в духе: громко хлопала дверью или скрипела окном, – и тогда они с визгом, толкаясь и мешая друг другу, бросались наутек.

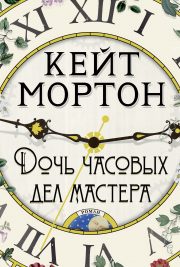
"Дочь часовых дел мастера" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дочь часовых дел мастера". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дочь часовых дел мастера" друзьям в соцсетях.