— Хорошо, хорошо, а теперь можете идти. Я больше не нуждаюсь в ваших советах, а она — в уроках. И в будущем, пожалуйста, не заглядывайте в эту дверь. Когда голодаешь, то ни бог не приходит на помощь, ни родственные души. Я уже слишком много слыхала об этом. Приберегите свои советы для других, господин учитель! Получите свое жалованье.
Мать вытащила из кошелька три бумажки по десять рупий и швырнула их к ногам учителя. Тот рассмеялся, зонтом отодвинул их в сторону и медленно-медленно пошел из комнаты.
Сердце Суман разрывалось от горя и гнева, но она не склонилась перед матерью. Ни одна слезинка не скатилась у нее из глаз, она не показала даже своего огорчения. Она ведь даже не могла попрощаться с учителем Рам Дином. Она знала, что учитель обойдется без ее последнего привета, не обидится на нее. Про себя она уже решила, что сходит к нему, если учитель не сможет навестить ее сам. Его дом недалеко отсюда, она знает адрес. Она пойдет, когда-нибудь обязательно навестит его. Но это будет, когда она встанет на ноги, когда заживет жизнью всеми уважаемой женщины…
Суман тяжело вздохнула. Родство душ. Действительно, отношения между нею и учителем Рам Дином можно было объяснить только родством душ. Но как они были недолговечны. Лишь несколько коротких детских лет…
Потом ей вспомнился день, когда мать отругала мальчишку — разносчика газет и запретила ему приносить газеты в их дом. Суман всей душой любила этого мальчика. О, если бы у нее был такой брат! Вдвоем они сумели бы заработать себе на жизнь. Он был горец, почти светлокожий, в лохмотьях, худой, с глубоко запавшими глазами. Ввалившиеся щеки и заострившийся подбородок еще больше подчеркивали его худобу. Но глаза блестели живым, умным блеском. Он торговал газетами и этим зарабатывал на хлеб себе и своей младшей сестренке, которую продолжал водить в школу. На каждом экзамене она была первой, и это доставляло мальчику безграничную радость. Сам он учился в вечерней школе, где не приходилось платить за обучение. «Газеты, газеты, газеты!» — разносился по утрам его голос.
Однажды Суман по ошибке дала ему шесть лишних монет. Он побежал вниз, пересчитывая на ходу деньги, потом вернулся и постучал в дверь. Суман уже успела закрыть ее.
— В чем дело?
— Госпожа, здесь шесть лишних, — и он положил на ладонь Суман еще горячие от его руки монеты.
Кто сказал, что человек не может заработать на жизнь честным трудом? Меньше — но может, тяжело — но будет жить. Суман удивленно рассматривала мальчика.
— Госпожа, я никогда никого не обманывал.
Если бы она могла продавать газеты! Суман просила его приходить каждый день до обеда, по черной лестнице и оставлять газету за ящиком с углем. Там же она будет оставлять ему деньги.
Потом Суман узнала, почему мать запретила ей читать газеты. Суман прочла, что для женщин, занимающихся проституцией, открываются специальные дома и приюты. Правительство стремится покончить с тем, чтобы они торговали своим телом, и намерено помочь им избавиться от низкого ремесла. Многие уважаемые граждане готовы оказать в этом помощь правительству и пытаются освободить общество от извечного позора. Потом стали появляться и другие сообщения на эту тему. Какой-то господин Рафик Хасан написал статью, в которой говорилось, что общество до тех пор не освободится от этого порока, пока человеку не будет гарантировано право на труд, пока не будут созданы необходимые предпосылки для обеспечения работой всех, а приюты следовало бы поручить надзору лиц, за которых можно поручиться, что они непреклонны перед сильными мира сего. Одна женщина написала, что заниматься благотворительностью по отношению к проституткам — заблуждение. Пока в обществе не станут относиться к ним как к равным, они все равно будут страдать от сознания собственной неполноценности и не сумеют противостоять презрительному к ним отношению. А в другой статье разоблачались весь этот обман и лицемерие, которые скрываются за красивыми словами о «перевоспитании» проституток. Автор раскрывал тайны многих важных чиновников и руководителей приютов для падших женщин и приводил имена и подлинные случаи из жизни тех женщин, с которыми он встречался сам и от которых он получил эти важные сведения.
Суман прочла все эти статьи подряд и совсем запуталась. Кое-что ей удалось понять. Кто эти люди, писавшие такие статьи, могла она встретиться с ними? Может быть, они помогут ей найти какую-нибудь достойную работу, какую-то честную службу. Кто они, эти люди? Где они?
Потом она придумала. Втайне от матери она написала письмо редактору.
«Господин редактор!
Я дочь потомственной таваиф[17]. Я пока еще не занималась этим ремеслом, но мать принуждает, и, кажется, мне вряд ли удастся избежать уготованного. Помогите мне найти другое занятие, чтобы мне не пришлось вести эту страшную жизнь. Я могу преподавать детям или женщинам английский язык, урду, хинди и арифметику, знаю музыку, пою, умею печатать на машинке. Я готова выполнять любую работу, лишь бы не торговать собой, и я буду с прилежанием выполнять все порученное мне».
Она подписала письмо, оставила свой полный адрес и отдала конверт продавцу газет, чтобы тот отнес его на почту. Но прошло много дней. А ответа не было.
И вот наступил день, когда должна была решиться судьба Суман. Она не знала, кто этот человек, откуда он, не видела его и не знала его привычек. Утром ее нарядили, повесили на шею гирлянду цветов и должны были увезти, как жертвенную козу на заклание. Куда? Она не имела об этом ни малейшего представления. А когда рассвело, Суман увидела возле дома голубую машину с красными колесами. В этой машине она должна была уехать.
Кто-то постучал в дверь. Несколько человек шумно втиснулись в комнату. Вместе с ними вошел полицейский. Один из вошедших был высокий и худой старик в одежде из грубой домотканой ткани, кхаддара[18], ставшего символом патриотов, с тяжелой палкой в руках. С его лица так и струились доброта и благолепие. Он спросил у Суман ее имя, потом объявил, что пришел забрать ее в женский приют. Мать растерзала бы этого старика, но увидела полицейского и сникла, а когда узнала, что Суман сама написала редактору газеты и, значит, сама пригласила этих людей, то упала в обморок…
Когда Суман вспоминает обо всем этом, она и сейчас не находит себе места. Но что ей тогда оставалось делать?
…Она сняла украшения, оделась в простенькое сари, взяла с собой пишущую машинку и несколько книг. Мать пришла в себя, но не проронила ни слова. Она знала, что принуждать кого-нибудь торговать своим телом считается преступлением. Уходя, Суман протянула руку к ситару[19] — не затем, чтобы взять с собой, а чтобы проститься с любимой вещью. Неизвестно, что подумала мать, когда закричала:
— Убирайся отсюда! И не смей даже притрагиваться…
— Поторопись, дочка, — сказал старик.
Она обернулась, взглянула еще раз на ситар и танпуру[20]. Это были друзья ее детства. Она собралась с силами и пошла из комнаты.
Два месяца, проведенные в приюте, так и остались вечным кошмаром. Две смены верхнего платья. Одно носила, другое находилось в стирке. Вставала в пять утра и трудилась без отдыха до одиннадцати вечера. Она делала все, что поручали, — учила грамоте, присматривала на кухне, следила за качеством питьевой воды, рассчитывалась с зеленщиками за овощи для столовой. И хотя работу распределяли между всеми, некоторые обитательницы приюта научились уклоняться от нее. И получалось так, как бывает везде: на Суман, показавшую прилежание и безропотность, свалили всю работу.
Кроме Суман, там было еще двенадцать или тринадцать женщин. Она сразу заметила, что некоторые из них — те, что были помоложе и покрасивее, — во время вечернего намаза принаряжаются, красятся и пудрятся, а к ужину являются только в двенадцать или даже в час ночи. Была еще одна, которая когда-то, в детстве, оказалась жертвой развратника. Днем она вела себя как все нормальные люди, а ночью из ее комнаты доносились дикие крики, визг и сумасшедший хохот. Еще было несколько старых нищенок, пытавшихся кокетничать, хотя теперь им было трудно шевельнуться, чтобы зачерпнуть себе воды. И потом, самое странное — мужчины беспрепятственно посещали этот приют. Несколько раз Суман порывалась сказать об этом благообразному старику, Шарме, который привез ее туда. Изредка он появлялся в приюте… Но когда он приезжал, мужчины куда-то исчезали, кроме господина Шадилала и двух вооруженных охранников, не оказывалось никаких мужчин.
«Я здесь всего несколько дней, — думала Суман, — кто мне поверит? Вот поживу еще немного и тогда уж наверняка расскажу».
Несколько раз приходила в голову мысль: а не сходить ли к учителю Рам Дину? Но когда она все-таки рискнула отпроситься, управляющий забросал ее десятком вопросов и в конце концов не разрешил. Снаружи у входа стоял вооруженный охранник. Приют? Заключение. Она и сама не хотела выходить тайком. Она не хотела потерять доверия к себе.
В этой замкнутой, беспокойной и унизительной жизни у Суман была одна радость — малышка Мину, дочка Сохни. Девочке было около четырех лет. Она повсюду бродила за Суман, не выпуская из крохотных ручонок подол ее сари. Мину с интересом слушала сказки, которые ей рассказывала Суман, и часто оставалась ночевать у нее в постели. Суман всегда что-нибудь припрятывала для нее, умывала ее, купала, стирала ее платьишки, играла с нею. У нее было такое же худенькое личико, как у мальчишки-газетчика. Сохни, ее мать, не собиралась быть матерью, а вот родилась эта девочка. Иногда Сохни безжалостно избивала ее, и Суман дрожала от негодования и плакала вместе с ребенком. Однажды она хотела защитить Мину, и удар пришелся по запястью Суман. Рука долго болела, разбились стеклянные браслеты. Это была последняя память о доме, о матери. Теперь не осталось даже памяти.
Ночью, когда женщины стелили себе на полу, появлялась Мину, звала мать и, часто не находя ее, забиралась в постель Суман и оставалась у нее до утра. Иногда поздно ночью приходила Сохни, на ощупь пробиралась между спящими, спотыкаясь и задевая их впотьмах, добиралась до постели Суман, рывком подхватывала Мину и тащила к себе. Девочка капризничала, упиралась, но мать не обращала на это внимания. До Суман доносился резкий запах дешевых духов и вина, шаги Сохни были нетвердыми. После десяти часов вечера везде, кроме конторы, выключали счет. Поэтому Суман никогда бы не смогла в точности рассказать, как выглядела в такие ночи беспутная Сохни.
И вот настал день, когда приют должны были посетить известные в городе благотворительницы, жены министров, общественные деятельницы. В тот день все было вымыто и выскоблено до блеска. Канавы, заполненные гниющими отбросами, источали запах фенола, лестницы были уставлены цветами в горшках, дорожки во дворе присыпаны гравием, швейные машинки вычищены и смазаны. Женщинам приказали начистить обувь, переодеться в чистые сари. Приют оплатит все дополнительные расходы. На обед вместо одного овощного блюда приготовили два. Подали гороховое пюре и сладкий рис.
В тот день Суман закончила свои дела пораньше, вымыла и причесала Мину и послала ее на улицу, так как девочка должна была надеть гирлянды из цветов на шеи почетных гостей. А сама она направилась в кладовку за кухней, где хранился уголь, подтащила к окну два полных мешка, поставила один на другой, забралась на них и стала ждать. Окно было расположено удобно, отсюда она могла наблюдать всю церемонию.
Шурша шинами по гравию, к подъезду подкатывали роскошные автомобили. Иногда подъезжали коляски рикш и легкие крытые двуколки-тонги, но приехавшие на них предпочитали останавливаться за воротами. Они, очевидно, и сами понимали, что их честь находится в их собственных руках. Разве могли соперничать тонги и коляски рикш с великолепными машинами, стоявшими в ряд у подъезда? На лицах этих посетителей были написаны стыд и смирение, будто она просили прощения: «Что поделаешь, вы уж простите нашу вину, средства не позволяют иметь лучший выезд!»
Суман с удовольствием любовалась этим зрелищем. Каких только женщин не было тут! Они были одеты в дорогие, модные одежды, у них в руках были красивые сумочки, распухшие от банкнот, их уши и шеи были увешаны драгоценностями. На каждом лице — толстый слой румян и белил, на седеющих волосах были заметны густые тени хны. В сердцах у них — сострадание к своим беспризорным заблудшим сестрам, и неукротимое желание позаботиться о морали этих потерянных женщин, не имеющих близких. Бедняжкам, озабоченным стремлением исправить общественные нравы, пришлось даже оставить свои дома, бросить все — званые вечера, клубы, скачки, танцевальные залы, коктейли…
Но вот в ворота въехала машина, верхняя часть которой была голубая, а колеса ярко-красные. Но эта машина не остановилась у парадного подъезда, а развернулась и стала напротив окна кладовой. Суман сразу узнала ее. Машину вел юноша. Тот, тот! У него были рыжие, почти красные, волосы. Суман отпрянула от окна и заспешила вниз. Этого человека она видела здесь. Однажды часов в пять утра, когда она выходила, чтобы выбросить мусор, она видела, как он покидал приют. А сейчас на нем была тонкая, расшитая золотой нитью рубашка, темно-красные брюки из дорогого материала и модные остроносые туфли. Он вышел из машины, открыл заднюю дверцу и помог выбраться высокому толстому мужчине в одежде из грубой домотканой материи. К тому тотчас подбежал управляющий приюта. Одетый в грубую ткань господин снова опустился на свое место в машине. Потом с одной стороны от него сел этот молодой человек, с другой — управляющий Шадилал, и несколько минут они оживленно о чем-то беседовали, покачивая головами, после чего Шадилал направился к парадной двери встречать гостей, а юноша нажал на стартер и захохотал. Мотор взревел. И машина подкатила теперь прямо к подъезду. Суман успела выбежать к двери, ведущей во двор, когда машина с красными колесами остановилась перед приютом. Все гости встали, дочка Сохни вышла вперед. В руках она держала гирлянду, свисавшую до земли. Из машины, опираясь на трость, вышел тот важный господин, управляющий взял Мину на руки. Гирлянда очутилась на шее господина и закачалась у него на толстом брюхе. Все захлопали в ладоши.

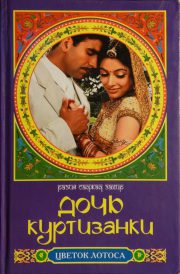
"Дочь куртизанки" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дочь куртизанки". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дочь куртизанки" друзьям в соцсетях.