Пати-Пати, мои друзья всегда будут называть вас «чудом из чудес» и «совершенством». Но теперь-то я знаю, чего вам недостаёт: любви к животным.
БАТУ
Я поймала её на набережной д'Орсэ[65] в огромном кабинете, самым великолепным украшением которого вместе с китайской вышивкой она была. Когда по зову её временного хозяина, тяготившегося столь прекрасным даром, я появилась у него, она сидела на дипломатических документах, разложенных на старинном столе, и была занята своим туалетом. Увидев меня, она сдвинула брови, соскочила на пол и стала кружить по кабинету между дверью и окном, особым, характерным для неё и всей её породы образом разворачиваясь и меняя лапу, коснувшись стены. Хозяин бросил ей шар из смятой бумаги, она засмеялась и совершила огромный прыжок, в который вложила всю неизрасходованную силу, показав себя во всей красе. Большая, как спаниель, с длинными мускулистыми ляжками, широким тазом, более узкой передней частью, довольно-таки маленькой головкой, с подбитыми белым ушками в чёрно-серый рисунок, напоминающий рисунок крыльев ночных бабочек. Презрительный оскал небольшой челюсти, густые усы, похожие на сухую траву в дюнах, янтарные глаза в чёрной оправе, взгляд, такой же чистый, как и цвет глаз, не способный дрогнуть под взглядом человека и никогда не солгавший… Однажды я захотела сосчитать чёрные точки на её мантии пшеничного цвета на спине и голове и цвета слоновой кости на животе – и не смогла.
– Она родом из Чада, – объяснил мне её хозяин. – Она могла бы быть и из Азии. Это снежный барс. Зовут её Бату, что означает «кошка», ей год и восемь месяцев.
Я забрала её; по дороге она грызла ящик и просовывала между рейками лапку, то выпуская, то пряча коготки, – это напоминало щупальца какого-нибудь морского цветка.
Никогда ещё в моём доме не проживало существо, столь близкое к природе. Повседневная жизнь показала мне её неиспорченный, совсем не затронутый цивилизацией нрав. Избалованный пёс рассчитывает, врёт, кошка скрывает и прикидывается, Бату ничего не скрывала. Она была совершенно здорова, от неё приятно пахло, у неё было свежее дыхание; я могла бы написать, что она вела себя как простодушное дитя, если б такие существовали. В первый раз затеяв со мной игру, она с силой схватила меня за ногу, желая повалить. Я строго прикрикнула на неё, она меня отпустила, выждала и снова взялась за своё. Я села на пол и сунула под её великолепный бархатистый нос кулак. Она удивлённо уставилась на меня, я улыбнулась и почесала ей голову. Она рухнула на бок, глухо заурчала и подставила мне свой беззащитный живот. Клубок шерстяных ниток, врученный ей в виде награды, растревожил её: запах скольких ягнят, задранных на бедных африканских пастбищах, пусть отдалённый и почти выветрившийся, почудился ей в этом клубке?..
Она улеглась в корзину, с доверием, как какая-нибудь многоопытная кошка, отнеслась к опилкам, а когда я вытянулась в тёплой воде, её улыбающаяся и устрашающая физиономия показалась вместе с двумя лапами у края ванны…
Она любила воду, и я часто по утрам ставила для неё таз с водой. Она била по воде, расплёскивая её, затем мокрая, счастливая принималась урчать. Любила важно прогуливаться по квартире с тапкой в зубах. Раз по двадцать катала деревянный шар по лестнице. На окрик «Бату» появлялась с очаровательным и нежным вскриком и задумчиво, с открытыми глазами, беззаботно устраивалась у ног горничной, занятой шитьём. Ела она неторопливо, осторожно, коготками брала кусочки мяса. Каждое утро я подставляла ей голову, она крепко хватала её всеми четырьмя лапами и шершавым языком вылизывала мои стриженые волосы. Однажды она очень сильно схватила меня за руку, и я её наказала. Обидевшись, она прыгнула на меня, и я с замешательством ощутила на себе её вес – вес дикого животного, его зубы, когти… Изо всех сил отшвырнула я её к стене. Она разразилась страшным мяуканьем, воем, заговорила на своём боевом языке и вновь пошла в наступление. Схватив её за ошейник, я ещё раз отбросила её к стене и ударила в морду. В эту минуту она, без всяких сомнений, могла серьёзно ранить меня. Но она не сделала этого сдержалась, взглянула мне прямо в лицо и задумалась… Клянусь, отнюдь не страх читался в её глазах. В этот решительный миг она – вполне осознанно – сделала выбор в пользу мира, дружбы, лояльного союза; улёгшись, она принялась лизать свой горячий нос…
Вместе с сожалениями о вас, Бату, во мне всегда жив укор: я корю себя за то, что прогнала подругу, в которой, к счастью, не было ничего человеческого. Впервые страх охватил меня, когда я увидела вас на четырёхметровой садовой ограде: вы очутились там одним прыжком – коты так и кинулись врассыпную. А в другой раз вы приблизились к собачке, которую я держала на коленях, примерились, безошибочно отыскали у неё за ухом место загадочного источника и принялись лизать, лизать… а затем, прикрыв глаза, стали покусывать. Я всё поняла и только тихо, сокрушённо проговорила: «Ах, Бату, Бату!» Обуздав свой стыд и плотоядие, вы вздрогнули всем телом.
Увы, Бату! Простая жизнь и дикая нежность не по нашему климату. Теперь вы живёте в зоологическом саду под романским небом; ров, который вам не одолеть прыжком, отделяет вас от тех, кто пренебрежительно относится к породе кошачьих; я надеюсь, вы забыли обо мне, которая, зная вашу непорочность во всём, кроме того, что заложено в вас природой, страдала от необходимости поместить вас в неволю.
БЕЛЛОД
Госпожа, Беллод сбежала.
– Когда?
– Сегодня утром, стоило мне открыть дверь. Её поджидал чёрно-белый ухажёр.
– Бог ты мой! Будем надеяться, к вечеру она вернётся…
Вот она и сбежала. Ничто не предвещало её побега, разве что наступило время собачьих свадеб; обычно она, такая красивая в своём чёрном одеянии и ярко-рыжих чулочках, послушно следовала за кем-нибудь из нас своей беззаботной иноходью, от которой на задних лапах, как подвески, болтались «штаны». Принюхивалась к траве, пощипывала её, презирала брабантских собачек с их пристрастием к списыванию кругов. А потом однажды встала как вкопанная, радостно навострила уши, уставилась на какую-то точку вдалеке, улыбнулась и всем телом на безыскусном собачьем языке прокричала:
– Это он!
Не успели мы спросить «Кто именно?», как она уже была в двух сотнях метров от нас; оказывается, она увидела Его – какого-то крошечного жёлтого заморыша…
Сама Беллод – длинная, лёгкая, как лань, высокая и горделивая, а любит карликов, помесь фоксов и бассетов, фокстерьеров, дрожащих мизерных шпицев. Среди её пассий – пудель цвета грязного, не тающего летом снега. Он окружает мою собаченцию в красных чулках смиренным, но упорным ухаживанием старого интеллигента. Смотрит на неё снизу вверх сквозь нечёсаные космы, словно поверх очков. Эскортирует её, бежит себе сзади мелкой неровной трусцой, от которой подрагивают все его грязные букли.
Вот она и сбежала. Куда? Надолго ли? Я не боюсь, что её раздавят или украдут: когда чужой протягивает к ней руку, она особым образом извивает шею и ощеривается, что отпугивает самых бесстрашных. Но есть ведь лассо, душегубки…
Проходит день.
– Госпожа, Беллод не вернулась.
Ночью шёл дождь – уже по-весеннему тёплый. Где шляется эта бесстыдница? Поди, голодает; правда, она может пить: лужи, ручьи в её распоряжении.
Перед решёткой у входа в сад дежурит промокший пёсик.
Он тоже дожидается Беллод… В Булонском лесу я расспрашиваю знакомого сторожа, не видел ли он большой чёрной собаки с рыжими лапами, надбровными дугами и брылями… Он качает головой:
– Ничего такого я не видал. Что я сегодня видел? Немного. Почитай, ничего. Дама поспорила с мужем… господин в лаковых туфлях спросил, нельзя ли снять двухкомнатную квартиру в доме сторожей, он, дескать, бездомный… Так что, ничего примечательного.
Проходит ещё день.
– Беллод всё ещё в бегах, госпожа…
В одиннадцать часов, отправляясь на прогулку, я решаю облазить все зелёные насаждения Отёя.[66] Ещё скрытая весна ощущается уже во всём, даже в ветре: чуть он сильнее – и ощущение острее, чуть он слабее – и ощущение мягче и нежнее. Чёрной с рыжим собаки нет как нет, зато показались рожки будущих гиацинтов и уже стали большими листики аронника. Заблудшая голодная пчела тычется во влажный мох, её можно взять в руки и согреть, не боясь, что она ужалит. Под мышкой у каждой веточки бузины торчит нежно-зелёный росток. Шестилетний опыт приучил меня узнавать в хриплой трели, в краткой хроматической гамме, которые с февраля издаёт птичья глотка, голос великого певца – отёйского соловья, хранящего верность своей роще, голос, озаряющий весенние ночи. Сегодня утром он разучивает у меня над головой забытые за зиму арии. Вновь и вновь принимается он за свои гаммы, сам себя прерывая хриплым смешком; в нескольких нотках уже звенит хрусталь майской ночи, и, стоит мне закрыть глаза, как я, помимо воли, связываю эти ноты с душным ароматом цветущей акации…
Но где же моя собака? Я иду вдоль частокола из каштановых реек, переступаю через железную проволоку, натянутую низко над землёй. Чья извращённо понятая забота о людях множит эти изгороди и проволочные заграждения, стремясь отвадить любителя пейзажа и предоставляя ему все возможности переломать себе ноги? Я возвращаюсь назад, устав от всех этих укреплений, загородок, заслонов, зелёных штакетников… И кто-то ещё смеет упрекать городские власти в том, что они запустили Булонский лес!
Что-то шевелится за одной из этих бесполезных баррикад… Что-то чёрное… рыжее… белое… жёлтое… Моя собака! Это моя собака!
Будь благословенен муниципалитет! Слава вам, охранительные заборы! Поклон вам, ниспосланные провидением ограды! Между автомобилями мелькает моя собака, а с ней ещё – один, два, три, четыре, пять – пять собак. Беллод окружена пятью грязными, задыхающимися, доведёнными до изнеможения и даже кровоточащими, словно только что из драки, псами, самый здоровый из которых едва ли достигает в холке… тридцати сантиметров…
– Беллод!
Перевоплотившись в Селимену,[67] она меня не заметила. Вопреки своей натуре добродетельная, недоступная кому попало, услышав мой голос, она теряет самообладание и тут же падает ниц, призванная к порядку…
– Ах, Беллод, Беллод!
Она пресмыкается, умоляет простить. Но я тяну с прощением и театральным жестом указываю поверх фортификаций на стезю долга и путь домой… Она без колебаний одолевает преграду и легко, в несколько прыжков, отрывается от своры пигмеев с высунутыми языками…
Зачем я её отпустила? А если она повстречает на своём пути соблазнителя ей под стать?..
– Госпожа, Беллод вернулась.
– С пятью шавками?
– Нет, госпожа, с одним большим псом.
– Ах, батюшки, где он?
– Там, на лужайке.
Да, вот он, и я со вздохом облегчения вспоминаю слова песни: «Муж с женой должны подходить друг другу…» Новый поклонник Беллод – немецкий дог, с тупым взглядом, не темпераментный, в ошейнике и наморднике зелёной кожи; зато по всем параметрам – в ширину, высоту, длину, – слава провидению, ну просто вылитый телёнок.
ДВЕ КОШКИ
У Муны, персидской голубой кошки, один котёнок, плод любви и мезальянса неизвестно с кем, наверно, с каким-нибудь полосатиком. Одному Богу известно, сколько полосатиков бродит по садам Отёя! Ранней весной в дневные часы, когда над оттаявшей землёй поднимается пар и она источает особый запах, иные участки земли, уже взрыхлённые, ждущие семян и саженцев, кажутся словно кишащими змеями: это полосатые сеньоры, пьяные от дурманящих испарений, выгибают спины, ползают на животе, бьют хвостами и трутся то правой, то левой щекой о землю, чтобы пропитаться многообещающими весенними ароматами, – так женщина пальчиком, смоченным в духах, дотрагивается до заветного местечка за ушком.
Наш котёнок – сын одного из полосатиков. Полоски он унаследовал в качестве родовых признаков от далёкого дикого предка. А от матери у него голубоватый налёт и особая пушистость, неощутимая на ощупь, как прозрачный персидский газ. Он явно будет хорош собой, он уже восхитителен; мы стараемся звать его Каравансарай, но впустую, потому как кухарка с горничной – персоны весьма рассудительные – переделывают Каравансарай на Муму.
Этот котёнок грациозен в любое время дня. Шарик из бумаги пробуждает его любопытство, запах мяса превращает его в крошечного рычащего дракончика, а пташки, летающие так быстро, что он не может уследить за ними, приземляясь на подоконник и клюя крошки, доводят его, наблюдающего за ними через стекло, до нервных припадков. У него растут зубки, и оттого он очень шумно сосёт мать. Этот невинный малыш угодил в самую серёдку драмы, даже трагедии.
И началась она в тот день, когда Нуар дю Вуазен[68] – ну чем не дворянское имя? – оплакивала на заборе потерю своих деток, утопленных утром. Плач её был сродни плачу всех матерей, лишённых своего дитяти, – безостановочный, на одной ноте; между двумя воплями она едва успевала набрать воздуху в грудь; жалоба следовала за жалобой; это было ужасно. Кроха Каравансарай наблюдал за ней снизу. Задрав голубоватую мордочку, он уставился на неё глазами цвета мыльной воды, ослеплёнными ярким дневным светом, и не осмеливался играть… Нуар дю Вуазен заметила его и словно в помешательстве спрыгнула вниз. Обнюхав его и обнаружив чужой запах, она с отвращением издала хриплое «кх-х-х», стукнула его по щеке, ещё раз принюхалась, лизнула в лоб, в ужасе отступила, вернулась, проронила нежное «р-р-р» – словом, всячески выразила сожаление, что ошиблась. Чтобы принять какое-то решение, ей не хватило времени. Подобная голубому лоскутку облака, несущему с собой грозу, и ещё более скорая, на неё надвигалась Муна… Нуар дю Вуазен, которой напомнили о её горе и призвали блюсти территориальные законы, исчезла, и весь этот день был окрашен в траурные тона её доносящимся издалека плачем…

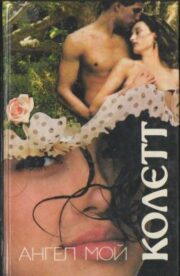
"Дом Клодины" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дом Клодины". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дом Клодины" друзьям в соцсетях.