– Расскажи нам, расскажи нам, – хором закричали они и, не имея терпения дождаться помощи слуг, сами придвинули свои кресла, чтобы сидеть почти вплотную к его коленям.
– Мадам, Ваша Светлость, – запинаясь, сказал де Броук. – Из меня плохой рассказчик. Должен сказать, что это была тяжелая битва. Тяжелее, чем мы ожидали. И именно король, лично, выиграл ее. Он сражался, как лев. Оксфорд застрял на месте. Германцы и ирландцы храбро сражались. Они были нашими врагами, но ни один человек не сможет отрицать их мужество. И именно король изменил ход сражения. Когда наши войска не смогли продвинуться вперед, Его Светлость сам вступил в бой. Затем они попытались обмануть нас. Один из них был одет, как Его Светлость, и побежал с поля, а другие закричали об этом, но Суррей выкрикнул, что король продолжает сражаться, и я знал это, потому что все время был рядом с ним, а затем… мы победили.
Маргрит и Элизабет снова начали смеяться и плакать. Лорд де Броук определенно был неважным рассказчиком, но он принес им величайшее утешение. Генрих должен был вернуться домой на следующий день или, по крайней мере, еще на день позже, и они знали, что услышат от него подробнейший рассказ.
Стоукская битва, последняя грандиозная битва войн Роз, завершилась. Генрих заслужил еще большее восхищение своих друзей, а его враги умерили свой пыл, смирившись с фактом, что король временно непобедим.
Все ожидали от него обычной снисходительности, но они ошибались. Казнен был каждый, кто находился на поле у Стоука. Затем Генрих вернулся домой и попытался смыть кровь со своего тела и из своей памяти. Но он еще не закончил. Он решил дать своим людям урок. Отдохнув несколько дней в Кенилуорте, король отправился на север и, подобно карающему ангелу, обратил свое внимание на тех, кто не откликнулся на его призыв.
Всех, кто не смог представить доказательств, что внес каким-либо образом вклад в его борьбу, вытаскивали из их домов, иногда и из постелей, и допрашивали. Но Генрих был все еще щепетильным. Было пролито немного крови, зато взысканные в виде штрафов деньги хлынули в его казну. Он не станет ждать, пока таможенные пошлины и налоги наполнят ее. Он извлечет из этого восстания не только политическую выгоду. Спустя некоторое время он станет богат, а мятежники станут настолько бедны, что не смогут снова поднять восстание. Своим друзьям и недругам он говорил:
– Однажды я простил и дал предупреждение. Я никогда не прощу снова даже простого неповиновения. Никогда снова.
Генрих смягчил свое отношение только к лже-Уорвику, чье имя, как они теперь знали, было Ламберт Симнел, и он был сыном оксфордского лавочника. Но даже это имело свою цель. Он выслушал рассказ юноши о том, как злой священник Саймондс увидел в нем сходство с правителями Йорка, обучил его соответствующим этому положению манерам и речи, убедил его, что он будет щедро награжден настоящим Уорвиком, а затем лестью и угрозами склонил его к обману.
– Ох уж эти ирландские мастера, – рассмеялся Генрих, – в конце концов они коронуют обезьяну.
Он постарался, чтобы это услышали многие, а когда два года спустя эти «ирландские мастера» прибыли к нему на поклон, он вызвал с кухни Ламберта Симнела, приказал ему подать им вино и повторил им в лицо эту фразу.
Симнел был помилован, и его включили в королевскую прислугу, чтобы поворачивал на кухне вертел с мясом и служил постоянным объектом насмешек для тех, кто обсуждал восстание. Саймондс, его злой гений, был передан в руки Кентербери, потому что только церковь могла вершить суд над священником. В этом случае Генрих не стал идти против системы. Когда Джон Мортон покончит с Саймондсом, то он захочет отдать его в руки королевского правосудия, а король был намного щепетильнее, чем даже Джон Мортон.
Лето было долгим и жарким, как и осень, но когда первого сентября вышел указ о созыве парламента, то люди, которых известили об этом, прибыли немедленно. Они прибыли, смиренно склонив головы, зная, что о чем бы король не попросил, что бы не предложил или даже намекнул, будет принято без единого голоса против. Генрих был абсолютным хозяином своего королевства. Ту знать и землевладельцев Йорка, которых он привлек раньше на свою сторону своей силой и милосердием, он присмирил теперь своей холодной жестокостью.
Меры, которые принял Генрих, возымели свое действие. Не возникло жарких страстей вокруг жестокости казней. Не было сострадания к жертвам, полностью лишенным своих земель, изгнанным или обреченным на голодную смерть. Кто насмехался ранее над приказами Генриха, стал достоин жалости, да, но ему была оставлена мизерная доля его собственности, как средство вернуться в будущем к своему положению. Штрафы были настолько тщательно выверены, чтобы человек заложил все, что имел, и смог их заплатить, сохранив свою жизнь. Такого человека его более преданные соседи сочтут дураком, и не нужно будет вселять в него чувство страха, чтобы предостеречь от подобных поступков в будущем.
– И я не могу понять, – рассмеялся Генрих, когда сидел вместе со своими финансовыми советниками на следующий день после своего триумфального возвращения в Лондон, – почему короли поступали настолько глупо, отсекая своим поданным головы. Какую прибыль можно извлечь из мертвого человека? И не говорите мне, что я бы тогда получил в собственность их земли. Эта собственность разве не вызвала бы дополнительные расходы на надсмотрщиков, рабочих, починку чего-либо? Разве мне не пришлось бы помогать вдовам и детям? А так я имею хорошую, чистую прибыль, – Генрих любовно посмотрел на толстую кипу счетов, лежащую на столе, – пока ограбленные мной жертвы будут слишком заняты спасением своей собственности от ростовщиков, у них не будет времени ненавидеть меня или забивать себе голову политикой.
– Совершенно верно, сир. А сейчас об использовании этого золота. Некоторая часть должна храниться в запасе, а оставшуюся можно хорошо вложить в строительство кораблей, в котором Ваша Светлость заинтересована, и которая является большим благом для королевства. Теперь у меня есть…
Генрих вздохнул, подпер голову рукой и позволил своим мыслям отвлечься. Обычно он был остро заинтересован в вопросах, касающихся денег, но сейчас у него было праздничное настроение. Он думал о том, как его встречали лондонцы, – громко и радостно, и о том, как его встретила Элизабет, – спокойнее, но не менее радостно. Артур тоже поприветствовал его; Генрих невольно рассмеялся и был вынужден извиниться перед Динхэмом, который выглядел удивленным и слегка обиженным. Артур с радостным воплем бросил тогда в голову любящего отца деревянный кубик, а когда Генрих взял его на руки, чтобы поцеловать, то намочил своему уже не столь любящему отцу весь камзол и штаны.
Маргрит тоже была там, но в более серьезном настроении, чем другие. Вначале она сообщила ему, что вновь удаляется в Ричмонд.
– Но почему, мама?
– Я могу сказать тебе только, потому что я так хочу. Другие причины касаются только меня, – резко ответила она. – Но перед своим уходом я хочу поговорить с тобой об Элизабет.
– Что ты хочешь сказать о Бесс? – спросил Генрих слегка прохладным тоном.
Маргрит удивленно уставилась на своего сына, а затем рассмеялась ему в лицо.
– Тебе пора проглотить некоторые слова, Генрих. До меня дошли слухи, что ты сказал, будто Элизабет никогда не будет коронована. И я думала до сих пор, что ты все еще не доверяешь ей, но если ты готов броситься на меня в ее защиту, то ты просто упрямый. Я не собираюсь задеть гордость Элизабет, а хочу тебе помочь укрепить твою.
– Я не думал об этом подобным образом. Я полагаю, что вообще не раздумывал долго над этим вопросом. Элизабет никогда не просила меня короновать ее.
– Ну что ж, тебе бы следовало подумать над этим. Ты думаешь, что гордой женщине по вкусу просить о том, в чем ей определенно будет отказано?
В это время Динхэм предложил строительство собственных кораблей, и Генрих согласился с ним, размышляя с одной стороны о том, чтобы назначить Реджинальда Брэя и Гилдфорда ответственными за строительство, а с другой – о коронации Элизабет. Он обнаружил в себе странное сопротивление этому и боролся с этим чувством на протяжении всего дня. Разве он продолжал не доверять ей? Чушь. Ее любовь к нему не вызывала сомнений, а когда он несколько раз предлагал ей взять на себя часть политической власти, то она отклоняла его предложение. Действительно, единственными обязанностями, от которых Элизабет пыталась уклониться, были политические, и Генрих надоедал ей только в тех случаях, когда бывал настолько погружен в государственные дела, что пытался говорить с ней об этом.
Она, возможно, сможет принять частичное участие в политике, ее интерес сможет вырасти, если он побудит ее проявить себя. Она могла с умом говорить о музыке, искусстве, литературе и даже о философии.
Генрих верно полагал, что Элизабет понимала его ревнивое отношение к своей власти и отказалась от мыслей о государственных делах. Он пытался объективно думать об этом вопросе и решил, что предпочитает, чтобы все оставалось на своих местах. На протяжении всего дня он решал дела с государственными деятелями, но этот вопрос продолжал тяготить его. Нет, Элизабет никогда не станет оспаривать его власть. Она дала это ясно понять, добровольно отказавшись от этих мыслей. В таком случае, почему бы ей не стать королевой, если она желает этого?
Может быть, потому, что люди любят ее так сильно, а он ревнует? Возможно. При мысли о людях Генрих почувствовал себя неуютно. Генрих понял причину своего чувства, когда обсуждал с Мортоном публичные празднования по поводу победы у Стоука. Эти празднования начинали тяготить его, и он с возмущением воспринимал эту идею – выставлять себя на всеобщее обозрение подобно ученому медведю. Он делал это без возражения и будет так делать всегда, потому что персона короля в некоторой степени являлась достоянием публики. Именно так! И королева тоже будет частично принадлежать народу, и Генрих понял, что не желает делить свою жену с грязными, вопящими толпами.
Но если Элизабет хочет этого? В этот момент Мортон прервал его мысли, мягко упрекнув короля, что он не уделяет ему внимания, и Генрих извинился перед ним, раздраженно подумав, что если он вскоре не уладит это дело, то обидит всех своих министров. Поспешно согласившись со всеми предложениями Мортона, Генрих избавился от него и удалился в свой кабинет. Именно здесь он был вынужден покорно признать, что для него никогда не имели большой важности желания Элизабет. На первом месте всегда были другие вещи: его нужды, нужды его страны. Коронование, по сути дела, не имело реального значения. Неужели он не сможет доставить ей этим удовольствие, если так часто он даже не принимал ее во внимание? Хорошо, он сможет!
С большим облегчением Генрих взглянул на кипу биллей, подготовленных к сессии парламента, которая должна была начаться через четыре дня. Он просматривал их, делая на полях пометки с поправками и комментариями своим аккуратным почерком, пока не настало время обеда. Элизабет сидела рядом с ним, необыкновенно красивая и в хорошем настроении, но время и место не подходили для рассмотрения данного предмета. Генрих с удовольствием выслушал ее домашние анекдоты, от всего сердца посмеялся над проделками шустрого Чарльза Брэндона и почти осознанными действиями своего сына, которые, казалось, были более разумными, чем бурное поведение малыша Брэндона.
– Я бы хотела, чтобы этот проклятый парламент уже закрылся, – неожиданно сказала Элизабет.
– Почему? – удивленно спросил Генрих.
– Потому что ты выглядишь таким уставшим, и ты работаешь больше, чем даже во время сессии. Я не знаю, как ты можешь читать все эти скучные, бесконечные аргументы и билли.
– Они могут быть бесконечными, но я не нахожу их скучными.
– Ты говоришь так, потому что решил ко всему приложить свою руку. Почему бы тебе, по крайней мере, не прийти послушать сегодня вечером немного музыки? Я встретила ребенка, который играет на флейте, как ангел.
Уже готовый согласиться, Генрих подумал о Динхэме, Ловелле, Эджкомбе, Мортоне и всех остальных, которые предложили билли, а теперь ждали от него замечаний, чтобы внести окончательные поправки.
– Я не могу, Бесс. После того, как откроется сессия, возможно, я буду более свободен.
– Ты говоришь, как будто ты заключенный, а не король.
– Король есть своего рода заключенный, если он хороший король. Но не сочувствуй мне понапрасну, Бесс. Я обожаю свое заключение. – Он поцеловал ее в щеку и поднялся. – Я приду вечером, как всегда.
После обеда Генрих увиделся с французским послом, который вызвал у него несварение желудка, и затем с посланником Максимилиана, который вызвал у него приступ желчи. Ко времени возвращения в свой кабинет он был уже более чем готов согласиться на увеличение ассигнований на обновление и усиление оборонительных сооружений Кале и Берика. Теплое чувство удовлетворения, которое он испытывал от того, что отбросил свои амбиции ради удовольствия Элизабет, исчезло. Он решил короновать ее и будет тверд по отношению к своему решению, но он не чувствовал воодушевления. Когда Генрих дважды просмотрел предоставленный Динхэмом билль о стабилизации денег и не понял ни одного слова, то обругал преданного ему казначея идиотом. Но когда то же самое произошло с письмом от Фокса, который вел в Шотландии очень деликатные и сложные переговоры, то он начал подозревать, что в этом повинен он сам, а не его министры. Генрих подумал, не присоединиться ли ему к своим вельможам. Он знал, что в таком настроении он просто заставит их чувствовать себя неловко, но это бы не остановило его, если бы он думал, что, набросившись на них, почувствует себя лучше. Было как слишком поздно, так и слишком рано, чтобы идти к Элизабет, поэтому он переоделся в халат и комнатные туфли и сел, чтобы протянуть время, занявшись делом, не требующим мысленных усилий. Взгляд, брошенный на стол, сразу же решил эту проблему. Он сможет проверить счета личных расходов Элизабет.

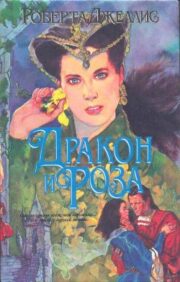
"Дракон и роза" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дракон и роза". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дракон и роза" друзьям в соцсетях.