Родители-то у нее верующие были, да рано померли чего-то! Может, род у них какой-то проклятый! Вроде и не грешники, а все помирают чего-то?!
Постепенно Темдеряков начинает запутываться в собственных мыслях. Он полностью замыкается на ранней смерти ее родителей и повторяет одни и те же фразы. Его лицо растягивается, как у резиновой куклы, выражая собой одно бессмысленное удивление этим непознанным миром. Он хватает меня за руки и начинает лихорадочно трясти, словно пытаясь вытряхнуть разгадку своей непонятной и злой до безумия судьбы.
– Ну, скажи, скажи, – шепчет в нетерпении, обливаясь потом.
Но я молчу, понимая, что это бред, бред пьяного Темдерякова, бред пьяного и больного человека, которого я страшно презираю и ненавижу. Временами я даже хочу вцепиться ему в горло и задушить его. Я уже ощущаю радостную и волнительную истому убийцы во всех своих членах. Я уже вижу во всех подробностях и деталях его коченеющее тело. Но в реальности я молчу и загадочно улыбаюсь. Просто я заранее предвижу, что может случиться со смыслом, в который одета для меня моя тоскливая жизнь. Он может просто исчезнуть и раздеть меня… И все будут проходить мимо и плевать мне в лицо. И это будет считаться чем-то вроде закона и наказания.
Я довожу Темдерякова до дверей его квартиры и вместо него нажимаю на звонок, сам он еле стоит, опираясь на меня. Дверь открывает она, моя сказочная Фея.
Видя меня, она смущается и неловко перехватывает качающееся, как маятник, тело Темдерякова. Я стою и жду от нее каких-то слов, но она молча захлопывает дверь, и я чувствую, как она там стыдливо плачет за дверью, укладывая своего пьяного мужа.
Потом я с грустью опускаюсь к себе. Впереди у меня бесконечная ночь со своей распахнутой Вселенной.
Я буду лежать на диване и мысленно баюкать плачущую Фею. Еще я буду смотреть в окно на звезды и буду читать свою судьбу по их горящим созданиям. Их лучи как связанные между собой буквы будут лихорадочно соединяться в один и тот же смысл, в образ моей, и увы, еще такой чужой и далекой Феи.
Всякая судьба начинается с кровоточащего лона. Внутри его темно и глухо, как во время зимней спячки.
Одно только подсознание бродит по закоулкам своей Памяти, а Память все вращается, как белка в колесе… И все! И ничего здесь не задержится, все исчезнет, двигаясь по невидимому краю Бытия. А там гул обворожительного Бессмертия…
И только здесь еще один я еще остаюсь среди ночи… один на один с туманным пятном, словно с Богом на черной стене… Беседовать и претворять в жизнь безумные сны. Аристотель забирается ко мне под одеяло и яростно мурлычет, впиваясь в мои ладони когтями, словно чувствуя тревожно бьющееся рядом с ним сердце. Тихо… Часы уже давно остановились, а мысли словно и начинали двигаться.
Родители висят в позолоченной раме, словно умершие. Их лица в темноте молчат. Все тихо и спокойно… Ровное кошачье дыхание только подчеркивает глубину моего отчаянного падения в Космос… Где души с тоскою ищут свои брошенные тела, где люди роняют в упоении свои сладостные слезы внеземного блаженства…
Где Вера вместе с Богом и утешением, и с воспоминанием быстро сливаются во мне, и я засыпаю как ребенок, радостно нащупав во сне кошачью спину, я вожу по ней словно по телу моей таинственной Феи рукой и засыпаю…
Сон волнами обступает мою Душу и падает вместе с ней в пучины мирового пространства… Сверкающие огни, музыка и множество возбужденных людей слушают, как я пою им ангельские песни… Какая-то детская блажь обделенного сочувствием поэта…
Так вся ночь проходит как наважденье, хотя ночь проходит, а наваждение в образе Феи остается… Четыре ангела в белом ее по небу несут… Архангел Гавриил трубит свою печальную рапсодию…
Утро приходит ко мне с осознанием собственного несчастья. Я вдруг чувствую, что жизнь нелепа, что иному человеку даже проживать ее не стоит, хотя бы потому, что ничего не изменится даже в этой крохотной, в этой ничтожной и уже навсегда исчезающей жизни.
Только один Аристотель смешно зевает и царапает меня, приглашая к нормальной, без всяких лишних страданий жизни. Я встаю с постели и с какой-то непонятной мне самому радостью кормлю ненасытного Аристотеля.
О, молодость! – как мы иногда ненавидим и презираем себя за свой возраст, за отсутствие какого-либо опыта, а самое главное – незнание жизни! Это только с годами мы привыкаем ко всякой гадости, врывающейся в наше и без того неудачное существование.
Это с годами мы портимся и лицемерим. Мы привыкаем обманывать себя своею же неудовлетворенностью, как будто эта неудовлетворенность, а с нею исступленность что-то могут переменить. Нет, скорее всего можно только больше отчаяться в том, что вроде никогда не бывает на белом свете.
Хотя бы той же самой любви. Ну и увидел я женщину, и назвал ее Феей, и полюбил в своей душе, но что, разве от этого я стал счастливее или она со своим алкоголиком-мужем? Нет, в этой жизни что-то не так. Что-то не продумано! Цнабель говорит, что эта непродуманность идет от Смерти. Мы слишком отягощены ее ожиданием и поэтому живем, как попало. Кому как понравится, а чаще всего приснится.
Веди жизнь – это иллюзия – иллюзия заполненных карманов. Человек как животное довольствуется тем, что имеет в данный момент. Только момент проходит, а человек вдруг осознает, что он в общем-то и ничего не имеет, и вряд ли когда-то имел и будет иметь. Это как в детской игре «испорченный телефон» царит один убийственный абсурд. Я люблю Фею, но она живет с человеком, который не любит ее. Кто создал этот брак, это странное присвоение чужих душ и мыслей? Кто-то сказал: женщина в любви либо рабыня, либо деспот! А если Фея по рабски пресмыкается перед этим жалким подобием человека, то не означает ли это, что она любит его, а если не так, то что тогда?!
Неужели, она уверена в том, что жизнь ее уже прошла, и она ничего в ней для себя не найдет?! Или она так боится его, что живет тихо, как монашенка взаперти… А поэтому плачет и молится?! И так, наверное, происходит всегда, когда человек теряет самое дорогое – свою свободу, своих близких.
Он живет некоторое время как сомнамбула. Он как во сне бродит между живущих тенью. Он не хочет помнить себя, и его влечет одна только Бездна…
Тайна без слов и без смысла своего существования, когда над Душою, как над огнем, простираются в небо одни лишь инстинкты. Я бы еще многое мог сказать сам себе, но мне некогда, я кормлю Аристотеля, пью возбуждающий мой разум кофе и убегаю в университет, или. Как ласково его все называют, школу учиться неизвестно чему… и унижаться.
Да, да, унижает меня, она как бы подчеркивает, что я, вчерашний школьник, все еще продолжаю оставаться таковым. Мне не хватает мужества, и я употребляю все силы, чтобы казаться немножечко старей.
Мне кажется, что это как-то может приблизить ко мне Фею. В то же время моя учеба, мой возраст и узкий круг знакомых крепко замуровывают меня в продолжающееся детство.
Я получаю достаточно денег от своего отца и вообще могу особо не задумываться ни о каких проблемах. Вместе с тем я толст, ленив и надуманно печален. Страдая от непознанной мной жизни, я тщетно пытаюсь развернуть ее перед собой в стихах, но у меня ничего не получается, кроме своей же естественной глупости.
Благодаря ей я скрупулезно рифмую бесполезные терзания и все чаще разглядываю себя в зеркале. При этом я понимаю, что во мне что-то не так, что мне давно уже пора выйти из этой снятой моими родителями квартиры вперед к неизвестному месту… и, сразу постарев на много лет, ощутить себя хоть немного собой. Однако я все продолжаю писать эти странные и непонятные, как жизнь, стихи.
Сейчас, спустя уже множество лет, я мог бы привести в пример одно из этих стихотворений, но именно сейчас это было бы так же напрасно и бессмысленно, как прежде было стыдно… вместе с тем я могу привести отдельные, наиболее часто встречающиеся в моих, как, впрочем, и в некоторых чужих стихах, слова.
Например, слово «тоска» (иногда «мучение», «хандра» и т. п.) выражает собой состояние молодого человека, который хочет иметь женщину, но в силу разных обстоятельств не имеет ее. Хотя опять-таки может ее иметь! Далее, слово «мечта» (иногда «идеал», «желание» и т. п.), не что иное, как связь больного воображения поэта с женским началом, с поиском этого начала во всех попадающихся на глаза женщинах.
Однако, Фея?! – Она все-таки была, и не во сне, а в реальности… И я действительно мечтал о ней… я писал не стихи, а желания, которые я о своего же лицемерного бессилия воплощал в один связующий образ обволакивающих меня слов. Я как сумасшедший говорил сам с собою и бессмысленно заносил свое невнятное бормотание в тетрадь… Фея, свет, голубка, притяжение…
И опять волны необъяснимой страсти с вожделением. Даже во время учебы можно забыться и ничего не видеть вокруг… Однако я хочу постареть… Ведь моя Фея старше меня на три года. Конечно, три года – это не Бог весть что, но ведь ее муж, ее алкоголик Темдеряков старше меня почти на 10 лет!
А это уже слишком! И пусть я при случае вдруг смогу набить ему морду, но разве это что-то изменит?! Разве я стану от этого старше или всемогущественней по сравнению с этими людьми? Ну, пусть Темдеряков пьет, но он работает, и у него есть свой кусок хлеба, свой заработок, и по какому-то праву он может просто ткнуть мне в лицо как малозначительному, неясному, но ощутимому щенку, который все еще прячется и повисает на шее у своих родителей!
Вот так и появляются эти дурацкие комплексы той самой неполноценности, из-за которой многие люди или плохо кончают, или сходят с ума. Один мой сокурсник от этого даже записался в баптисты, а потом был вынужден бросить университет, ибо его духовный отец или наставник, в общем, какой-то там гуру, запретил ему становиться умней, чем он есть. И теперь этот мой бывший сокурсник ходит с огромным крестом и громкоговорителем по улицам, читая молитвы, и зовет всех в Божье царство.
Меня же он почти не замечает, или старается не замечать – даже не знаешь, что и подумать. В общем, был человек и пропал, растворился в какой-то идее.
Так вот и я стал отчаянно думать и сопротивляться собственной наивности и молодости, как будто это было не благом для меня, а непосильным ярмом. Вот как я захотел одряхлеть, даже самому не верится! И стал я тогда «духовно» побираться, т. е. общаться со всеми подряд, и узнавать, как этот самый опыт вместе со старостью наступает, поскольку теперь только через это надумал заполучить свою Фею!
И был среди нас один очень старый студент, такой старый, что его даже в студенты не хотели принимать, но он все же схитрил и отнял у себя одну, другую парочку лет, и звали его Федей, только он не любил, когда его так звали, и он всем говорил: «Зовите меня просто Федором Аристарховичем», – но его все звали Федькой, и он в конце концов смирился с этим, но свое умственное старческое превосходство все равно при случае подчеркивал, и вот я и обратился к нему за советом, и он мне его дал, после того, конечно, как я сводил его в самый дорогой ресторан…
И вот он напился, как свинья, потом схватил меня за шиворот и шепнул мне на ухо: «Тебе бы, сопляку, в каких-нибудь экстремальных условиях поработать надо!»
– Это как? – удивился я.
– Ну, сторожем в морге или санитаром на «скорой помощи», одним словом, чужую смерть повидать надо! Вот тогда ты и состаришься враз! А сейчас ты так, говно на палочке!
Помню, слезы выступили у меня тогда на глазах, и в морду ему хотел дать. И даже чего-то еще такое натворить, чтоб и самому тошно стало, да сдержался, а его совет, как ни странно, на веру себе так и принял, что сразу решил во что бы то ни стало пойти работать санитаром на «скорую помощь». Ибо спасать живых более благородно, чем глядеть на мертвых, хотя потом и на мертвых поглядеть пришлось изрядно.
Когда человек верит во что-то, он действительно становится таким, как ему подсказывает его собственная вера. Не хочу лгать, но работа на скорой была для меня и адом, и раем одновременно, ибо любая тварь корчится в собственном теле и любой твари от любой нелепой случайности позволено покинуть этот мир, как, впрочем, и воскреснуть, т. е. вернуться обратно в свое прежнее состояние, а мне, простому смертному, довелось множество раз наблюдать отходняк, и всякий раз думалось мне, что сейчас, вот-вот что-то этот умирающий и скажет очень важное, напоследок, и выразит перед смертью что-то такое, что, может быть, он всю свою жизнь добивался сказать, ан, нет, никто ничего так и не сказал и умер просто так, как какую-нибудь обычную гадость совершил, и выходило по натуре, что мы все такие ничтожные и такие несчастные твари, даже самому порой страшно становилось.
И пусть я не знал никогда этих людей, уж перед смертью-то не смущаются, – ее или боятся, или со спокойной улыбкой принимают, или, на худой конец, так боль в себе пересиливают, что ни до чего им, грешным, и дела никакого нет. А вместе с тем, увидел я и воочию убедился, что все эти болезни и заразы всякие из души берутся, из пустоты ее темной и бездеятельной, когда у человека уже совсем руки опускаются, и он сам не живет, а доживает по инерции или по еще какой-то необъяснимой оплошности, но так или иначе, а все они сами себя боятся и что-то лишнее наговаривают, а потом и муки их душевные в телесные перерождаются, а что до болезней, так у них своя природа имеется, более простая и научная, где уже все понимание на костях и на мышцах держится!

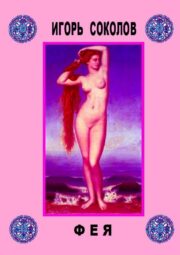
"Фея" отзывы
Отзывы читателей о книге "Фея". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Фея" друзьям в соцсетях.