Ax, дорогой друг, мне нужно было рассказать Вам все это. Я пролил много слез, когда писал Вам, и теперь чувствую себя лучше.
Поэтому я избавлю Вас от описания тягостных подробностей, последовавших за всеми этими событиями.
Прежде всего я распорядился, чтобы в комнате матушки ничего не трогали.
После ее кончины я провел там несколько дней. По вечерам я ходил на кладбище, оставался некоторое время у могилы и возвращался в дом, в комнату матушки, не зажигая света.
Первые ночи я спал в кресле, по-прежнему стоявшем у изголовья кровати.
Я надеялся, что ко мне явится призрак матушки.
Увы! Ничего подобного не произошло…
Особенно удручали меня угрызения совести — они причиняли мне больше страданий, чем мое горе.
Я подсчитывал, сколько дней провел вдали от матушки, хотя мог все это время быть рядом с ней. Я думал о своих бессмысленных, пустых и тщетных странствиях, а также о том, что добровольно отказался от счастья видеть ее, счастья, за которое готов был заплатить теперь любую цену.
И все же кое-что меня радовало: я чувствовал, что у меня еще сохранилась способность плакать и что источник слез, сокрытый в глубине моей души, неиссякаем.
Я плакал всякий раз, когда приходил на могилу матушки и когда возвращался в ее комнату; я плакал, когда встречал на улице священника или врача — особенно врача.
Мне казалось, что отныне моя жизнь будет тоскливой и я никогда не вернусь к прежним развлечениям. Прошло лето, а мне не пришло в голову проехаться верхом; наступила осень, а мне не хотелось охотиться. Я перестал общаться со знакомыми женщинами, общество которых, как разменная монета, заменяет нам подлинную ценность — любовь.
Я полагал, что, в то время как моя душа была полна скорби, было бы кощунством написать хотя бы одной из них, даже чтобы сказать ей: «Мы больше не увидимся».
И главное, мне казалось, что мое сердце умерло вместе с матушкой и я уже никогда не смогу полюбить.
Это состояние продолжалось четыре месяца.
Я несколько раз виделся с молодым врачом, лечившим — увы, безрезультатно — матушку.
Постепенно он стал оказывать на меня некоторое влияние: так, все время повторяя, что я должен отправиться в путешествие, он убедил меня покинуть Фриер.
Однако, согласившись с его доводами, я долго колебался, прежде чем уехать.
Три раза я уезжал и тотчас же возвращался.
Моя рана еще не зажила, и невидимые нити, связывавшие меня с комнатой матушки и ее могилой, были обагрены кровью.
Наконец, я двинулся в путь, но не поехал через Париж — в это время я пребывал в том состоянии, когда скорбь, не имея более перед собой ничего, что питало бы ее, не желала, чтобы у ее воспоминаний были соперники. Я нуждался только в одиночестве.
Поэтому я решил провести месяц или два месяца на берегу моря, в каком-нибудь небольшом бельгийском или голландском портовом городке, где у меня не было ни единой знакомой души.
Взглянув на карту, висевшую на постоялом дворе в Пероне, я выбрал наугад местечко Бланкенберге, расположенное в трех льё от Брюгге.
«Слава Богу, — думалось мне, — я буду там один, совсем один».
Я отправился туда верхом, чтобы не вступать в общение с людьми, чего не смог бы избежать в дилижансе или вагоне поезда. Мне было все равно, сколько времени я проведу в пути — один день или две недели, — но меня беспокоило иное: что будет со мной, когда я доберусь туда?
Чувствуя себя неутомимым, я делал остановки не ради собственного отдыха, а чтобы дать передышку измученной лошади. Я ночевал в трех-четырех городах, даже не удосужившись узнать их названия, и заметил, что подъехал к границе, лишь когда меня попросили показать паспорт.
Переночевав однажды в каком-то местечке в нескольких льё от Брюсселя, я намеревался пересечь этот город, не останавливаясь в нем, как вдруг на бульваре Ботанического сада кто-то окликнул меня по имени.
Не в силах передать Вам, до чего неприятно мне было это услышать.
Я пришпорил коня, чтобы избежать встречи, но мне преградили дорогу.
Это был Альфред де Сенонш, один из моих хороших знакомых, но, как Вы понимаете, в моем состоянии я не мог видеть даже хороших знакомых.
Однако мы с Альфредом были настолько дружны, что, когда я его узнал, мне было легче примириться с этой неприятностью.
Он служил первым секретарем во французском посольстве в Брюсселе, и быстрый взлет его карьеры произошел не без моего участия.
Приятель принялся засыпать меня вопросами, в ответ я молча указал ему на траурную ленту на своей шляпе.
Он сжал мою руку и сказал:
— Я понимаю, бедный друг, расскажете позже!..
— Да, — промолвил я, — позже мне будет очень приятно снова тебя повидать.
— Ты не хочешь остановиться у меня?
— Я не стану останавливаться в Брюсселе.
— Куда ты направляешься?
— Туда, где я буду один.
— Поезжай! — сказал Альфред. — Ты еще слишком болен и пока не поддаешься лечению. Только запомни одно: большое горе сродни долгому отдыху, и, оправившись от своей печали, ты станешь сильнее, чем прежде.
Я посмотрел на приятеля с удивлением.
— Разве ты был несчастлив? — спросил я.
— Женщина, которую я любил, мне изменила, — ответил он.
Взглянув на него, я пожал плечами.
Мне казалось, что никакая любовь не может заставить страдать так, как страдал я.
— А как же теперь? — осведомился я.
— Теперь я играю, курю и пью, — сказал Альфред, — и вполне доволен жизнью. Я полагаю, что скоро стану префектом. Тогда, как ты понимаешь, мое счастье будет полным.
На этот раз я посмотрел на приятеля с грустью.
Возможно ли, чтобы кто-то чувствовал себя более несчастным, чем я?
— Мой дорогой Макс, — произнес Альфред, словно прочитав мои мысли, — среди двадцати разновидностей страданий, которых я не стану перечислять, есть тихая боль вроде твоей, и жгучая боль вроде моей. Я очень хочу измениться, но тебе не следует меняться, поверь мне. Прощай! Ты заглянешь ко мне в префектуру, не так ли? Ты будешь у меня как дома, и я дам тебе наплакаться вволю… лишь бы ты не мешал мне смеяться. Слушай, у тебя есть спички? Я хочу закурить сигару. Черт возьми! Я позабыл, что ты не куришь.
Остановив какого-то простолюдина, дымившего пенковой трубкой, Альфред закурил и пошел по направлению к Схарбеку, оборачиваясь и кивая мне на прощание.
Я смотрел ему вслед, пока он не исчез из виду.
Затем я продолжил свой путь, благословляя Бога за то, что он послал мне сокровенные страдания, а не мирские горести.
Два дня спустя я прибыл в Бланкенберге.
Три месяца я провел наедине с морем, то есть с бесконечностью.
Каждый день я ходил вдоль берега к тому месту, где за несколько дней до моего приезда сел на мель корабль.
Тогда погибли пять человек, находившиеся на его борту — человеческий механизм оказался наиболее хрупким.
Судно выбросило на берег с такой силой, что оно буквально впечаталось в песок.
В первый раз, когда я пришел к потерпевшему крушение кораблю, у него еще были целы мачта, бушприт и большая часть такелажа. Но дело было зимой, и море часто штормило.
Каждый день я видел, как судно теряет что-нибудь из своих снастей.
Сегодня оно лишилось реи, назавтра — мачты, а через день — руля.
Подобно стае волков, бросающихся на мертвое тело, волны кидались на корпус корабля, и каждая из них отрывала от него кусок.
Вскоре от судна остался один остов.
Когда с верхней частью корабля было покончено, пришла очередь его нижней части.
Сначала треснула обшивка, затем оторвало палубу, унесло корму, и наконец исчезла носовая часть.
Кусок бушприта, удерживаемый тросами, еще долго был на виду.
Однако в одну из бурных ночей тросы не выдержали и мачту тоже унесло.
Так последний обломок кораблекрушения канул в воду под натиском волн и ветра…
Увы, друг мой! Я был вынужден признаться самому себе, что то же самое происходило с моей печалью: каждый день забирал ее частицу, подобно тому как волны ежедневно поглощали части погибшего судна. И вот наступил момент, когда внешне моя печаль стала незаметна, и, подобно тому как ничего не осталось от судна, потерпевшего кораблекрушение, там, откуда ушла скорбь, не осталось ничего, кроме бездны.
Мог ли кто-либо ее заполнить?
Достаточно ли было бы для этого дружбы или потребовалась бы любовь?..
Я вернулся во Францию.
Прежде всего я отправился в свой замок во Фриере.
При виде его фасада с закрытыми окнами, при виде комнаты, где умерла матушка, и могилы, где она покоилась, у меня снова навернулись на глаза слезы, которые, как я полагал, уже иссякли.
В первые дни я вновь предавался горькому упоению былыми страданиями.
Мне показали рисунок на стене, сделанный Вами во время моего отсутствия.
Я узнал Ваш почерк, хотя Вы не поставили там своей подписи.
Затем мне стало понятно, что я преувеличивал свою боль, когда решил вернуться во Фриер, — она была недостаточно сильной для того, чтобы стоило там оставаться.
Я чувствовал, что вскоре это святое место станет для меня столь же привычным, как церковь для священника. Но я не хотел привыкать к святым местам.
Поэтому я ощутил потребность покинуть дом, с которым мне было так трудно расстаться четыре месяца тому назад.
Но если тогда я уезжал из него со слезами на глазах и с сотрясаемой от рыданий грудью, то теперь я уезжал с сухими глазами и со стеснением в груди.
Я добровольно вернулся в Париж, хотя уже не надеялся увидеть его снова.
Париж всегда жил сложной, лихорадочно-бурной, беспокойной, беззаботной и эгоистичной жизнью, напоминая мне гигантский, вечно движущийся маховик, который ежедневно перемалывает между своими зубцами людские судьбы, интересы, чины, троны и династии. Здесь было возможно все: громкие процессы, подобные процессам Морсера и Теста, ужасные преступления, подобные деяниям отравительницы Вильфор и убийцы Пралена.
Возможно, мое долгое отсутствие, страдания и одиночество, когда я общался лишь с волнами, ветрами и бушующей стихией, обострили мою интуицию, ибо я чувствовал, что в этом нравственном хаосе таится нечто зловещее и непостижимое, некий политический Мальстрем, грозящий уничтожить целую эпоху.
У меня случались видения, как у Иоанна Богослова на Патмосе. Так, мне казалось, что я вижу летящий по небу корабль под названием Франция — носитель мысли и прогресса; я видел, что у него под килем спокойное море и что попутный бриз раздувает его паруса, но он все время пытается идти против ветра. Я видел, что у руля корабля стоит мрачный пуританин, суровый историк с черствой душой, которого несчастный старый король, неспособный понять истинную цену людей и суть происходящего, сделал своим кормчим. Помнится, как-то раз герцог Орлеанский, наделенный острым критическим умом, говорил мне о нем: «Этот человек ставит нам всем горчичники, когда требуются припарки».
В самом деле, г-н Гизо ставил горчичники Франции, нервная система которой была напряжена до предела.
Я был поражен теми картинами, что открывались мне благодаря ясновидению.
Если бы герцог Орлеанский был жив, я бы пошел к нему и сказал: «Разве вы не видите того, что вижу я, или у меня просто обман зрения?»
Однако принц давно покоился в Дрё в семейном склепе; по крайней мере, он мог быть уверен, что его не заставят покинуть Францию, которую он так сильно любил.
Что касается меня, то не все ли равно? Я уже ничего не любил.
Я думал только о двух друзьях: в первую очередь о Вас, а затем об Альфреде де Сенонше.
Но Вы в то время занимались созданием театра и образ Ваших мыслей был весьма далек от моих.
С точки зрения искусства, это было прекрасное и полезное начинание, и я не посмел отрывать Вас от дела.
Тогда я навел справки об Альфреде де Сенонше и узнал, что он стал префектом в Эврё.
Мне не хотелось являться к приятелю в качестве гостя, и я решил заглянуть к нему мимоходом. Дальнейшие мои действия должны были зависеть от того, как он меня встретит.
Если бы его прием пришелся мне не по душе, я всегда мог бы уехать.
И вот однажды утром я пришел в префектуру Эврё и спросил господина префекта.
Мне ответили, что господин префект чрезвычайно занят и никого не принимает.
Я возразил, что не собираюсь отвлекать г-на де Сенонша от дел, но, будучи одним из его друзей и находясь проездом в Эврё, где я рассчитываю пробыть не более двух часов, прошу лишь передать ему мою визитную карточку.
Секретарь согласился это сделать.
Дверь кабинета тотчас же распахнулась.

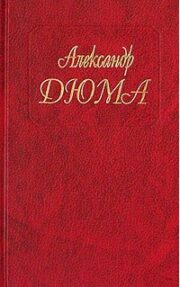
"Госпожа де Шамбле" отзывы
Отзывы читателей о книге "Госпожа де Шамбле". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Госпожа де Шамбле" друзьям в соцсетях.