Ранним морозным утром, когда гости стали расходиться, они простились как-то по-особенному, как суженые, которые завтра увидятся. Возвращаясь домой с отцом, она пересекала ту же самую площадь, ничуть не уставшая, бодрая и веселая, с восторгом вдыхая холодный воздух. Ей нравились морозный туман и унылая заря, все вокруг казалось дивным и пленительным.
…Майская ночь уже давно наступила; одно за другим, чуть поскрипывая, закрылись окна. Го все сидела на прежнем месте. Последние редкие прохожие, различая в темноте ее белый чепец, должно быть, думали: «Эта девица наверняка мечтает о своем ухажере». Это была правда, она действительно мечтала о нем — и ей хотелось плакать. Белые зубки беспрестанно покусывали красиво очерченную нижнюю губу. Глаза не мигая смотрели в темноту, но ничего из реальных предметов она не видела…
…Почему он не вернулся после свадьбы? Что в нем переменилось? Как-то раз она повстречала его, но он, по обыкновению, быстро отвел глаза. Похоже, он избегал ее.
Часто она говорила об этом с Сильвестром, тот тоже ничего не понимал.
– И все-таки, Го, ты именно за него должна выйти замуж, — говорил Сильвестр, — если, конечно, твой отец не будет против. Ты не найдешь в округе никого более подходящего. Прежде всего, скажу тебе, он парень благоразумный, хотя на первый взгляд этого не скажешь, и выпивает редко. Бывает, правда, он немного упрямится, но, в сущности, характер у него мягкий. Ты и представить себе не можешь, какой он добрый. А моряк какой! Каждый сезон капитаны отвоевывают его друг у друга…
Она была уверена, что получит благословение отца, ведь он никогда не шел наперекор ее желаниям. А богат Янн или нет — ей все равно. Такому моряку достаточно небольшой суммы на полгода каботажного плавания, и он станет капитаном, которому все судовладельцы захотят доверить свои суда.
И еще ей безразлично, что он такой огромный: для женщины слишком большой рост может быть недостатком, а мужчину это совсем даже не портит.
Осторожно, стараясь не выдать себя, она порасспросила о нем местных девушек, больших знатоков всех любовных историй. Выяснилось, что Янн, никому не давая никаких обещаний, не выказывая предпочтения ни одной, гулял направо и налево, наведывался к благоволившим к нему красоткам и в Лезардриё, и в Пемполе.
Однажды поздним воскресным вечером она видела, как он прошел мимо ее окон в обнимку с некоей Жанни Карофф — девицей, конечно, красивой, но с дурной репутацией. Это причинило Го нестерпимую боль.
Ее уверяли, что он очень вспыльчив, рассказали, как однажды вечером, подвыпив в одном из пемпольских трактиров, где, по обыкновению, развлекаются рыбаки, он швырнул массивный мраморный стол в дверь, которую ему не пожелали открыть…
Все это она ему прощала: известно, какими иной раз бывают моряки, когда на них находит… Но если у него доброе сердце, зачем он искал знакомства с ней, когда она думать о нем не думала? Чтобы потом бросить? Для какой надобности всю ночь не сводил с нее глаз, мило и, казалось, так искренне улыбался, таким нежным голосом откровенничал с ней, будто с невестой? Теперь она уже не в силах побороть себя и полюбить другого. Давно, в детстве, ей обычно говорили, когда хотели отругать, что она плохая девчонка, упрямица каких поискать. Такой она и осталась. Красивая, пожалуй, слишком серьезная, с виду высокомерная, не поддающаяся ничьему влиянию, она в глубине души осталась прежней.
Последовавшая за свадьбой зима прошла для Го в ожидании встречи, но Янн даже не пришел попрощаться с ней перед уходом в море. Теперь его здесь не было, и для нее все как бы перестало существовать; время, казалось, замедлило свой бег до осени, когда нужно будет все прояснить и покончить с этим…
…На часах мэрии пробило одиннадцать — так, по-особенному, колокола звучат лишь тихими весенними ночами.
В Пемполе одиннадцать часов — время позднее. Го затворила окно и зажгла лампу, чтобы лечь спать…
А что, если Янн просто-напросто диковат? Или же считает ее слишком богатой и опасается, тоже из-за гордости, что ему откажут?.. Ей хотелось так прямо у него и спросить, но Сильвестр полагал, что этого делать нельзя, что негоже молодой девушке вести себя столь напористо. В Пемполе и так уже осуждают ее слишком гордое выражение лица и манеру одеваться…
…Она снимала одежду с той рассеянной медлительностью, которая свойственна погруженным в мечты девушкам: вначале муслиновый чепец, потом пригнанное по городской моде элегантное платье, которое кое-как бросила на стул. Затем сняла длинный девичий корсет, вызывавший пересуды своим парижским покроем. Ее фигура, освободившись, сделалась еще более совершенной, приняла свои естественные очертания, полные и плавные, как у мраморных статуй; движения девушки изменились и стали обворожительными.
Маленькая лампа, единственная, горевшая в этот поздний час, чуть таинственно освещала ее плечи и грудь, ее восхитительные формы, которые никогда не ласкал ничей взор и которые, конечно, не достанутся никому, так и увянут, никем не виденные, потому что Янну она не нужна…
Она знала, что у нее красивое лицо, но она не подозревала о красоте своего тела. Надо сказать, что в этом районе Бретани у дочерей исландских рыбаков такая красота не редкость. Ее почти не замечают, а самые неразумные из девиц, вместо того чтобы выставлять ее напоказ, стыдятся даже приоткрыть ее для чьего-либо взора. Только утонченные горожане придают большое значение красоте тела и стремятся запечатлеть ее в камне, металле или на полотне…
Она принялась убирать на ночь волосы, уложенные в виде корзиночек над ушами, и две тяжелые косы упали ей на спину, словно змеи. Она уложила их на макушке короной — так удобно спать — и сделалась похожей, со своим прямым профилем, на весталку.[10]
Она не опустила рук и, покусывая нижнюю губу, продолжала теребить пальцами светлые косы — словно ребенок, который треплет игрушку, думая совсем о другом; затем, вновь уронив косы, она забавы ради принялась быстро-быстро их расплетать; вскоре волосы покрыли ее всю до пояса, и она стала похожей на лесную нимфу.
Но сон все-таки пришел к ней, невзирая на муки любви и желание плакать; внезапно она бросилась на кровать, пряча лицо в шелке волос, раскинувшихся теперь словно покрывало…
В своей хижине, в Плубазланеке, бабушка Моан тоже в конце концов заснула чутким сном стариков с думами о своем внуке и смерти.
В тот же самый час на борту «Марии», в полярных водах, очень неспокойных, два желанных человека, Янн и Сильвестр, распевая песни, в веселом расположении духа ловили рыбу при неугасаемом свете дня…
Примерно месяц спустя. Июнь.
Над Исландией стояла та редкая погода, которую моряки называют «белое безмолвие»: в воздухе ни малейшего движения, словно все ветры разом обессилели, стихли.
Небо было затянуто густой беловатой пеленой, темнеющей к горизонту и становящейся свинцово-серой с блеклыми сотенками олова. А внизу от недвижных вод исходило мутное сияние, от него болели глаза и по телу пробегал холодок.
В этот раз муаровые переливы играли на поверхности моря — легкие разводы, похожие на те, что получаются, если подуть на зеркало. Казалось, все блестящее водное пространство покрыто еле различимыми узорами, они сплетались друг с другом, видоизменялись и, мимолетные, скоро исчезали.
Нескончаемый вечер или нескончаемое утро — определить невозможно: солнце, больше не указывающее на время суток, постоянно находилось в небе, главенствуя в этом сиянии неживой природы; оно почти не имело очертаний и теперь казалось огромным благодаря мутному гало[11] вокруг себя.
Янн и Сильвестр, сидя рядом, ловили рыбу и напевали бесконечную песенку «Жан-Франсуа из Нанта». Сама ее монотонность веселила их, и, искоса поглядывая друг на друга, они смеялись детской забаве: каждый новый куплет старались спеть с особенным задором. Соленая свежесть румянила им щеки, полной грудью вдыхался девственный бодрящий воздух — источник жизненных сил.
Однако многое вокруг выглядело безжизненным — то ли уже отжившим, то ли еще не созданным: свет не нес с собою ни малейшего тепла, неподвижные предметы словно навеки застыли под взглядом огромного призрачного глаза, который зовется солнцем.
«Мария» отбрасывала на воду длинную тень, какая бывает вечером; тень казалась зеленой на гладкой, отражающей белизну неба поверхности. На всем затененном, матовом участке сквозь прозрачную воду можно было видеть, что творится на глубине: бесчисленные рыбы, мириады и мириады, похожие одна на другую, медленно скользили в одном направлении, словно какая-то цель влекла их в беспрестанное путешествие. Это была треска; она передвигалась косяком, рыбы тянулись друг за другом, плыли параллельно друг другу, точно серые штрихи, и без конца сотрясались быстрой дрожью, из-за чего все это скопление немых жизней казалось какой-то текучей массой. Иногда, резко ударив хвостом, рыбы одновременно поворачивались, сверкая серебряным брюшком; потом другие рыбы делали то же самое, и по косяку прокатывались медленные волны; создавалось впечатление, будто тысячи стальных клинков разом высекли под водою по маленькой молнии.
Солнце, уже очень низкое, опустилось еще ниже — значит, наступил вечер. По мере того как светило спускалось к свинцовому горизонту, оно становилось желтым, его диск вырисовывался более отчетливо, более реально, на него уже можно было смотреть, как смотрят на луну.
Создавалось впечатление, что солнце не так уж удалено в пространстве; казалось, доплыви на судне всего-то до горизонта — и вот он, большой печальный шар, парящий в воздухе в нескольких метрах над водой.
Лов шел бойко; в спокойной воде можно было ясно разглядеть, как происходил клев: треска подплывала, жадно хватала приманку, затем, почувствовав себя на крючке, слегка встряхивалась, словно для того чтобы понадежнее закрепиться. В следующий миг рыбаки обеими руками быстро выдергивали удочки и кидали рыбу тому, кто должен был ее выпотрошить и засолить.
Флотилия пемпольских судов, рассеянная по зеркалу моря, оживляла пустынный пейзаж. Кое-где вдалеке виднелись небольшие паруса, поднятые, несмотря на полный штиль, больше для вида и выделявшиеся своей белизной на фоне серого горизонта.
В тот день ремесло исландского рыбака выглядело таким легким и спокойным, что им впору заниматься барышням…
Жан-Франсуа из Нанта,
Жан-Франсуа,
Жан-Франсуа!
Они пели, эти два больших ребенка.
Янна мало заботило, что у него красивая и благородная внешность. Он был ребенком только в компании с Сильвестром, пел и резвился только с ним; с другими, напротив, был замкнут, горд и угрюм — и, однако, очень мягок, когда у кого-то в нем случалась нужда, и всегда добр и услужлив, если его не сердили.
Они напевали песенку про Жана-Франсуа; двое других — в некотором отдалении — пели что-то иное, какой-то протяжный мотив, тоже вызванный к жизни дремотой, телесным здоровьем и смутной тоской.
Время шло, и никто не скучал.
Внизу, в кубрике, в железной печке всегда теплился огонь, и люк был закрыт, чтобы у тех, кто хотел спать, создавалось впечатление ночи. Для сна рыбакам нужно было совсем мало воздуха — людям менее крепким, выросшим в городах, требуется гораздо больше. Когда сильная грудь весь день наполняется вольным воздухом, она тоже словно бы засыпает и совсем не двигается во сне; тогда человек может точно зверь забиться в какую угодно нору.
Спать ложились после вахты, в любой момент, по настроению: когда постоянно светло, время значения не имеет. Спали без снов, крепко, спокойно, сон приносил полноценный отдых.
Спящих охватывало волнение, если вдруг приходили мысли о женщинах. Они широко открывали глаза, представив, что через полтора месяца путина закончится и они обнимут своих любимых — новых или уже давних.
Но это случалось редко; чаще мысли о женщинах были вполне невинны: просто вспоминались жены, невесты, сестры, родственницы…
Когда есть привычка к воздержанности, чувства тоже засыпают — и довольно надолго.
Жан-Франсуа из Нанта,
Жан-Франсуа,
Жан-Франсуа!
…Теперь рыбаки всматривались в нечто едва приметное на сером горизонте — легкий дымок, идущий от поверхности моря, будто крохотный хвостик, тоже серый, только чуть темнее неба. Глаза, привыкшие обследовать глубины, быстро заметили его.
– Пароход, вон там!
– Я думаю, — сказал, приглядевшись, капитан, — что это патрульный корабль…
Легкий дымок принадлежал кораблю, везшему рыбакам известия из Франции, и среди них — письмо от старушки, написанное рукой молодой красивой девушки.
Судно медленно приближалось; вскоре стал виден его черный корпус, это был крейсер, обходивший западные фьорды.

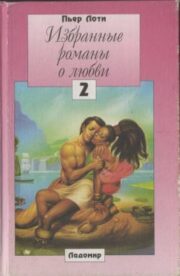
"Исландский рыбак" отзывы
Отзывы читателей о книге "Исландский рыбак". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Исландский рыбак" друзьям в соцсетях.