А что, разве она поумнела?
Забросила шитье, рисунок – все забросила из-за того, что богочеловек оказался обыкновенным, почти хрестоматийным негодяем. Хорошо, не негодяем, а просто не тем, за кого она его принимала. А он наверняка считает, что это она оказалась не той, за кого он ее принимал. И еще неизвестно, кто из них прав.
Как назло, еще и Веня куда-то пропал. Нилке даже обидно стало: был, был – и нет его.– Сними с меня мерки, – выставив вперед округлившийся животик, попросила Тонька – она явно была чем-то смущена.
– Что будем шить?
– Свадебное платье, – пробормотала под нос Антонина, упорно разглядывая протертые на носке колготки, из которых просился на свет наманикюренный ноготь.
– Класс! Алик вернулся, – попыталась угадать Нилка.
Тонька в ответ потрясла головой и, шмыгнув носом, прогундосила:
– Не-а.
– А кто? – Нилка с нарастающим удивлением пожирала подругу глазами – та только ниже опускала голову.
– Пообещай, что ты не будешь сердиться.
– Обещаю, – медленно ответила Нилка. В ее глупой голове пронеслась совсем уж безумная мысль, от которой на душе стало муторно: неужели Рене?
Тонька улыбнулась заискивающей улыбкой:
– Веня мне сделал предложение.
– Фу-ты, – у Нилки вырвался вздох облегчения, – я черт-те че подумала.
Облегчение, которое она испытала, вообще не вписывалось ни в какие рамки: какое ей дело до Рене?
– Ты не сердишься? Правда? – заглядывала в глаза подружка.
– Ну, с какой стати? – рассеянно, все еще думая о своем, ответила Нилка.
Все объяснилось просто: устав от Нилкиной неприступности, Веня прибился к Антонине.
Сначала плакался на объемной Тонькиной груди, жаловался на нее, Неонилу Кива, потом как-то само получилось, что Веня стал припадать к Тонькиной груди за другой надобностью.
Тонька не отталкивала Веню – глупо было бы, если на горизонте маячит клеймо «мать-одиночка».
Глаза у Тоньки были на мокром месте, она поглаживала живот и исповедовалась срывающимся голосом:
– Я бы никогда-никогда… Но Веня клялся, что у вас с ним ничего ни разу не было. Врет, да?
– Не было, – засвидетельствовала Нилка.
– Нилка, ты правда не злишься на нас? – все не могла успокоиться Тонька. – Ничего у нас не выйдет с Веней, если ты будешь злиться, – я точно знаю.
– Да с каких пирогов я должна на вас злиться?
Под впечатлением от Нилкиной щедрости Тонька все-таки всплакнула.
Легко уступив подруге жениха, Нилка потащила ее в райцентр за отрезом на платье.
Настроение было праздничным, ехала, будто на свидание.
Это и было свидание – с мечтой.
В магазине тканей на Нилку нахлынул благоговейный восторг, она испытала томление почище любовного.
Антонина скромно приткнулась на стул в ожидании, пока подружка насладится созерцанием этого великолепия.
Нилка крутилась между стеллажами, а в голове у нее крутилось свое кино: из парчи она представляла пиджак в китайском стиле, из белого гипюра – невинно-соблазнительную блузку, из полупрозрачного шелка – летний наряд-двойку с цыганскими мотивами.
– Скоро ты? – потеряла терпение Тонька. – У меня мочевой пузырь лопнет.
Нилка подругу пожалела, но еще долго ворчала, что разные сомнительные личности отвлекают ее от дела.
Всю обратную дорогу Тонька не закрывала рта, расхваливала Веню, его папашу и мамашу, а Нилка с тихой печалью слушала подругу и думала о том, что вот Тонкино будущее осветило солнышко, а в ее жизни один сплошной беспросветный туман и конца этому не видно.…Парадокс, но чем больше было заказов, тем сильнее овладевало Нилкой отчаяние.
«Теперь ты осела здесь капитально. Состаришься и упокоишься на поселковом кладбище, недалеко от родителей», – без всякой пощады говорила она себе и смахивала злые слезы.
Голый сад добавлял мрачных красок в унылую жизнь. «Лучшее, что тебя ждет, – это место швеи в захолустном ателье», – не жалела себя Нилка.
Но тут интуиция Нилку подвела.
Сначала Тонька подкатила с отрезом, с легкой Тонькиной ноги потянулся жидкий ручеек заказчиков: соседка Федоровна попросила сшить юбку на юбилей мужа, невестка Федоровны – жена Ленчика – платье все на тот же юбилей.
После семейства Худяковых подтянулись Огурцовы и Лычкины. Одни отмечали второе рождение после перенесенного ботулизма, другие – крестины.
Как-то незаметно Нилка оказалась в курсе всех поселковых новостей – челюсти сводило от скуки.
Колька Лычкин – ее бывший воздыхатель – работал в автосервисе, источая яд, сообщила Федоровна: «Пантелеевна его по родственным каналам туда воткнула. Он же дуб дубом был в школе».
Одноклассники дружно спивались, одноклассницы дружно плодились – развлечения в поселке не отличались разнообразием.
Если бы не поселковая убогость, Нилка, пожалуй, признала бы, что зря обиделась на судьбу: все-таки ей, в отличие от земляков, удалось краем глаза взглянуть на мир. Но уныние и скука поднимались над поселком, как ядовитые испарения, и был только один способ не думать о веренице серых буден – работа.
Прикасаясь к куску материи, Нилка забывала обо всем и даже на короткое время примирялась с окружением.
За сарафаном пошла юбка, за юбкой – еще одна юбка, потом блузка и снова блузка.
Перед раскроем свечку в церкви Нилка не зажигала, но работу начинала с молитвы: «Царю небесный, утешителю…» – и, что бы ни шила, душу в работу вкладывала.
Так пролетел Новый год, а после Нового года Рене оплатил подключение к Интернету, и хрупкий Нилкин мирок затрещал по швам.Во-первых, сразу стало ясно: Дюбрэ не собирается увозить ее с малой родины. Если бы хотел увезти – не стал бы морочить голову себе и людям, проводить Интернет, для чего понадобилось вызывать мастеров и админа из районного центра.
Выходило, что Рене сделал ее несчастнее, чем она была до этого, хотя куда уж несчастнее?
– Зачем? – сдерживая бешенство, спросила Нилка, когда все было налажено, установлено и подключено.
– Ты сможешь писать письма.
– Тебе? – От злости на Рене Нилка перешла на «ты».
– Хотя бы мне, – смутился, как школьник, Рене, – или Мерседес.
– Особенно если учесть, что я не знаю итальянского, – мрачно съязвила Нилка.
– Ты сможешь выучить язык на виртуальных курсах, – занудствовал Рене.
За каким лешим ей итальянский в их глуши?
– За каким лешим?.. – начала Нилка и заткнулась. То ли от злости, то ли от жары возражать стало лень: за окнами валил снег, и баба Катя, увидев посиневшего от холода француза, прибавила газа в котле.
– Чтобы тренировать мозги, – снимая вельветовый пиджак и аккуратно (так, что Нилка только скрипнула зубами) вешая его на спинку стула, вежливо объяснил Рене.
О телефонном разговоре не было сказано ни слова.
«Трус, – мысленно костерила лягушатника Нилка, – все на меня переложил: дескать, ты звонила, тебе и карты в руки. Объясняй теперь ему, что это было, зачем и почему».
И Нилка выбрала тактику Дюбрэ – делала вид, что этого звонка отчаяния не было.
После обеда, в течение которого Нилка хранила враждебное молчание, баба Катя «на минуточку» заскочила к Федоровне, и Нилка с Рене остались вдвоем.
Разомлевший от борща и печного жара, Рене некоторое время в полной тишине взирал на Нилку – она ожесточенно скребла ложкой по дну тарелки, собирая остатки супа.
– Скоро морозы начнутся, – прочистив горло, тонко заметил Рене.
– А? Да! – глупо поддакнула Нилка. – Скоро.
– Ненила, нам пора поговорить, – непререкаемым тоном заявил Рене.
– О чем? – Нилка продолжала выскребать несуществующий суп.
– Пора объяснить мне кое-что.
В соответствии с выбранным курсом Нилка прикинулась веником:
– Это ты о чем?
– О твоем звонке. Ты уже придумала, что ты мне скажешь?
– Хм! Когда это было! Уже не имеет смысла это обсуждать – поезд ушел.
– И все-таки. Я хочу услышать объяснение.
– А что объяснять? – заняла оборону Нилка. – Ты же все равно не приехал, когда был нужен.
«Отказал в последней просьбе умирающей, теперь строит из себя благодетеля, – продолжила она мысленно, – лицемер».
– Я не мог приехать раньше, – мягко возразил Рене, – ты же знаешь нашу работу.
– Знаю, – кивнула Нилка. Злость куда-то подевалась, Нилка почувствовала обиду. В горле моментально затвердел комок.
«Старый кентавр. В кого, интересно, он втюрился?» – непонятно почему вспомнила Нилка.
– Ты очень хочешь отсюда уехать? – Под линзами очков Нилка не могла рассмотреть взгляд Рене, но его голос… Голос вдруг оказался чувственным и глубоким и проникал в какие-то тайники души.
Растеряв воинственность, Нила призналась:
– Очень.
– Хорошо, – сказал Рене, – я помогу тебе, но при одном условии.
– Ну разумеется. – Нилка криво усмехнулась.
– Не торопись с выводами. Я всего лишь хочу, чтобы ты решила, кем хочешь стать.
Педантичность Рене убивала на корню всякую мечту, и Нилка разочарованно промямлила:
– Понятно.
– Что тебе понятно? – сдержанно поинтересовался Рене, и Нилка отчетливо почувствовала его несгибаемую волю.
Эта воля, как зловещий туман, расползлась по домику, заполнила все углы и тугим коконом спеленала Нилку.
– Я не знаю, что мне делать, – жалобно сказала она из кокона и спрятала лицо в ладонях.
– Никто за тебя этого знать не может, – непреклонно, без намека на жалость, сказал Рене. – Давай вместе рассуждать.
– Давай. – Нилка изобразила прилежную ученицу – все-таки не зря прослушала курс актерского мастерства.
– Ты готова на все, чтобы уехать из поселка?
– Да, – выдавила Нилка. Черт бы побрал тот звонок и этого сухаря француза.
– И ради этого ты согласна стать моей содержанкой?
– Я уже твоя содержанка, если ты не заметил, – с горечью сообщила Нилка, чем вызвала у Рене саркастический смешок.
– Насколько я знаю – еще нет.
Эта усмешка ударила Нилку, как пощечина.
– Я готова ею стать, – не щадя себя, жестко, в тон Дюбрэ, сказала она, – я готова стать твоей любовницей.
Господи, как она ненавидела его сейчас! Эти очки, эти тонкие поджатые губы и показательно выбритые щеки. И переплетенные пальцы.
– Так, с этим вопросом разобрались, – менторским тоном заключил Рене, – теперь второй вопрос: ты хочешь провести всю жизнь в содержанках?
Перспектива показалась Нилке убийственной, она вскинула на Рене злые глаза:
– Нет, конечно.
– Хорошо. – Рене расплел пальцы и принялся задумчиво теребить себя за ухо. – Тогда логично возникает следующий вопрос: чем ты хочешь заниматься, кроме того, что быть моей любовницей?
– Шить, наверное, – промямлила Нилка. Зануда Дюбрэ уже вынес ей мозг. И вообще все вывернул по-своему. Она же не в любовницы набивается. Она только хочет уехать из поселка. Если это можно сделать без постели – кто ж против?
– Ты неплохо рисуешь, – многообещающе начал Рене и тут же все испортил, – не достаточно хорошо для того, чтобы стать художником, но достаточно хорошо, чтобы стать художником по костюму. Если, конечно, тебя интересует история костюма. – Он выдержал паузу.
– Нет, история костюма мне как-то не очень…
Неожиданно для себя Нилка вдруг поняла, что слушает Дюбрэ затаив дыхание. Что ж, с этим не поспоришь: она действительно неплохо рисует. Это от отца, в свое время подвизавшегося художником-оформителем на метизном заводе.
– Хорошо, – понимающе кивнул Рене, – идем дальше. Ты училась на закройщика-модельера?
– На дизайнера-модельера. – Звучало так пафосно, что Нилка застеснялась.
Рене снова подергал себя за ухо.
– Ты помнишь Мерседес?
– Ну при чем здесь Мерседес? – простонала Нилка. – Почему ты не предлагаешь вспомнить Лагерфельда или Пако Рабана? Все-таки мужчины…
– Потому что ты с ними не знакома, – отрезал Рене, – не говоря об остальном… Так вот. Мерседес стала дизайнером-модельером только через двадцать лет упорного труда. А вы – странные вы люди. Двадцатилетним девушкам присваивать квалификацию «дизайнер-модельер» – это очки втирательство.
– Очковтирательство, – механически буркнула Нилка.
– Ладно, сейчас не об этом. Мерседес мне рассказала, как ты навела ее на мысль с лентами.
Нилка смутно припомнила что-то такое: после примерки луков она прикладывает подходящие по цвету атласные ленты к жилету и юбке…
– Просто они мне под руку подвернулись, – пробормотала она.
– Объясни, почему ты стыдишься своего таланта? – неожиданно рассердился Дюбрэ. – И как ты могла его разменять на паршивое дефиле?
– Ой, только не надо меня воспитывать! – ощетинилась Нилка, освобождаясь от гипноза речей ушлого Рене. Она-то, дура, думала, что лягушатник серьезно интересуется ее делами, а он просто удовлетворяет любопытство. Ничтожный человечишка!
– Я только одного добиваюсь: чтобы ты поняла, чего хочешь на самом деле, – веско сказал ничтожнейший, – провести жизнь здесь, работая швеей и рожая Вене детей, или создавать настоящие луки и завоевывать мир?

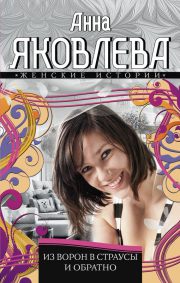
"Из ворон в страусы и обратно" отзывы
Отзывы читателей о книге "Из ворон в страусы и обратно". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Из ворон в страусы и обратно" друзьям в соцсетях.