Вздрогнув от первого моего прикосновения, она повернула ко мне необыкновенное лицо; у неё отсутствующий взгляд, брови опущены, рот соблазнительно приоткрыт, она будто напряжённо чего-то ждёт… Вдруг она швыряет к моим ногам свои сокровища, я обо всём забываю под её требовательное воркование, её захлёстывает порыв безудержной страсти, за которым следует немного детское «спасибо», громкие ахи и вздохи, будто девочка, умирающая от жажды, пила, не отрываясь, до полного изнеможения…
Теперь она говорит, и её дорогой голос нарушает очарование настоящей минуты. По правде говоря, она «выбалтывает» свою радость, совсем как Рено… Неужели они оба не могут смаковать её молча? Я вдруг становлюсь мрачной под стать этой странной комнате… Какой из меня отвратительный партнёр в первые после близости минуты!
Я оживаю и крепко обнимаю Рези; её теплое тело будто нарочно создано для меня: оно изгибается, когда изгибаюсь я, оно так подвижно в своей неуловимой стройности, что я нигде не встречаю сопротивления…
– Ах, Клодина, вы так крепко обнимаете!.. Да, уверяю вас, что его супружеская холодность, его оскорбительная ревность могут всё простить… (Она имеет в виду моего мужа? Я не вслушивалась… И зачем ей прощение? Это слово здесь неуместно. Поцелуем я сдерживаю поток её нежных слов… на несколько секунд.)…Вы, вы, Клодина… Клянусь, что я никогда так мучительно не ждала встречи ни с кем, кроме вас. Столько времени потеряно, любовь моя! Вспомните: скоро весна, и каждый день приближает нас к летнему отдыху, а значит – к разлуке…
– Я тебе запрещаю уезжать!
– Да, запрети мне что-нибудь! – умоляет она с неизбывной нежностью, обняв меня за шею. – Ругай меня, не бросай меня, я никого не хочу видеть кроме тебя… и Рено.
– Ага! Рено снискал милость?
– Да, потому что он добр, у него нежная душа, он понимает и поддерживает нас… Клодина, я не испытываю стыда в присутствии Рено, это странно, правда? (И впрямь странно, я даже завидую Рези. А вот мне стыдно! Нет это не совсем подходящее слово, скорее… я немного шокирована. Вот именно: мой муж меня шокирует.)
– …И потом, дорогая, это не имеет значения, – приподнимаясь на локте, заключает она, – ведь мы втроём переживаем несколько необычных страниц в жизни каждого из нас!
«Несколько необычных страниц!» Ну и болтушка! А если я с силой прижмусь к её губам, она догадается, почему мне хочется сделать ей больно? Я хотела бы прокусить её острый язычок; я хотела бы любить молчаливую Рези, безупречную в своём молчании, оживляемом лишь взглядами и жестами…
Я забываюсь в поцелуе – чувствую только, что подрагивают ноздри у моей подруги да часто вздымается грудь… Становится совсем темно; я поддерживаю голову Рези обеими руками, словно драгоценный груз, взлохмачиваю волосы, такие нежные, что даже на ощупь могу определить их оттенок…
– Клодина! Я уверена, что сейчас семь часов! – Она вскакивает, бежит к выключателю, и нас заливает свет.
Я чувствую себя одиноко, мне холодно, я сворачиваюсь клубком на нагретом месте, надеясь подольше сохранить тепло Рези и впитать в себя её горьковатый аромат. Мне ведь спешить не надо. Мой муж преспокойно дожидается меня дома!
Она ослеплена и какое-то время крутится на месте, не в силах найти разбросанное бельё. Вот она наклоняется за обронённым черепаховым гребнем, снова поднимается, и её сорочка соскальзывает наземь. Она не смущаясь закалывает волосы торопливо, но как всегда очень грациозно, и это меня забавляет и в то же время чарует. Подмышки и низ её живота утопают в золотой пене такого нежного оттенка, что при свете кажется: моя Рези обнажена, будто статуя. Но у какой статуи может быть такой упругий задок, такой смелый изгиб рядом с хрупкой талией?
Серьёзная, тщательно причёсанная, как подобает приличной даме, Рези прикалывает к волосам свою весеннюю шляпку и замирает на мгновение перед зеркалом, причём единственная её одежда – эта сиреневая шапочка. Увы, мой смех подхлестывает её! Вот уже сорочка, корсет, полупрозрачные трусики, нижняя юбка цвета утренней зари обрушиваются на неё, словно по мановению волшебной палочки. Ещё минута, и Рези-светская дама закутана в меха, её руки затянуты в шведскую лайку цвета слоновой кости; она стоит передо мной, гордясь своей необычной ловкостью.
– Блондиночка моя! Уже темно, и все ваши бело-золотые прелести не могут соперничать с солнцем… Помогите-ка мне встать: я не в силах оторваться от этих простыней, они меня удерживают…
Я встаю и потягиваюсь, раскинув влажноватые руки – чтобы размять затёкшую спину; я разглядываю себя в большое, удобно расположенное зеркало; мне нравится моё мускулистое тело, его мальчишеская угловатость, более чёткие формы, нежели у Рези…
Она тычется головой мне под мышку, и я отворачиваюсь от зеркала, чтобы не видеть вызывающую картину: нагая женщина рядом с одетой.
Я торопливо одевалась с помощью подруги, от неё веет любовью, она утопает в мехах…
– Рези, дорогая, не пытайтесь научить меня своей стремительности! Рядом с вашими волшебными ручками я всегда буду выглядеть так, словно одеваюсь ногами!.. Как? Мы даже не отведали…
– У нас не было времени, – замечает Рези и посылает мне улыбку.
– Хотя бы винограду, а? Жарко…
– Ну хорошо, пусть будет виноград… Бери…
Она надкусила ягоду, я слизываю сок у неё с губ…
Меня шатает от желания и изнеможения. Она вырывается из моих объятий.
Погасив свет и приотворив дверь на холодную, гулкую, ярко освещённую лестницу, Рези в последний раз тянет ко мне горячие губы, пахнущие мускатным виноградом… и вот уже мы на улице среди суетливых прохожих; из-за неурочного одевания я ощущаю озноб, лёгкое недомогание, как бывает, когда приходится вставать среди ночи…
– Девочка моя дорогая! Иди-ка, я тебя повеселю! Рено входит в туалетную, где я затеяла утреннюю пытку своим коротким волосам. Он уже сидит в плетёном кресле и улыбается.
– Вот, полюбуйся. Преданный человек, изъявивший желание за шестьдесят сантимов в час следить за порядком в моей квартире на улице Гёте, передал нынче утром предмет, обнаруженный среди простыней и аккуратно завёрнутый в обрывок «Пти Паризьен», с такой сопроводительной надписью: «Это Ваш подбородник, сударь…»
– !!!
– Ты, конечно, скажешь, что это непристойно. Взгляни.
У него на руке покачивается узкая полоска линона в мелкую складку, обрамлённая малинскими кружевами… Погончик от сорочки Рези! Я подхватила его на лету… ни за что ей не отдам.
– …Подозреваю, что эта консьержка шепнёт словечко нашим водевилистам, горячо любимым публикой. Расскажет, как вчера около шести часов вечера я приходил тайком – а я очень беспокоился, что моя любимая так долго не возвращается – узнать, что с ней. А консьержка мне ответила с осуждением, сдерживаемым из почтительности: «Эти дамы находятся здесь уже около двух часов после того, как господин удалился».
– Ну и что?
– Ничего… Я не стал подниматься, Клодина. Поцелуй меня «за это».
Теперь это уже не дневник Клодины, потому что я не могу рассказывать только о Рези. Что стало с былой беззаботной Клодиной? Трусливая, нетерпеливая, печальная, она болтается в фарватере у Рези. Время идёт, ничем не нарушаемое, если не считать наших свиданий на улице Гёте раз-два в неделю. В остальное время я послушно следую за Рено в исполнении его обязанностей: премьеры, ужины, литературные салоны. В театр я нередко вожу подругу с довеском в виде Ламбрука: только на это время я и могу быть спокойна, что она мне не изменяет. Страдаю от ревности, однако… Рези я не люблю.
Нет, не люблю! Но я не могу от неё отделаться, да и не пытаюсь. Когда её нет рядом, я могу не дрогнув представить себе, как её сбивает машина или она раздавлена во время аварии в метро. Но у меня начинается гул в ушах, а сердце трепещет, как заячий хвост, стоит мне подумать: «В эту минуту она подставляет губы любовнику или подруге, при этом ресницы её трепещут, а голова откинута назад со столь хорошо мне знакомым выражением сладострастия».
Ну и что из того, что я её не люблю?.. Страдаю-то я не меньше!
Я с трудом выношу Рено, так охотно исполняющего роль третьего лишнего. Он отказался отдать мне ключ от холостяцкой квартирки, сославшись – не без основания – на то, что нас с Рези не должны видеть входящими вдвоём. И всякий раз, как я говорю: «Рено! Завтра мы пойдём туда…», я делаю над собой усилие, неизменно переживая унижение.
Рено предупредителен, мил; ему, несомненно, нравится, как и Рези, эта «необычная» ситуация… Их общая потребность – в том, чтобы показать себя порочными и современными, – приводит меня в смущение. Я делаю то же, что и Рези, однако не чувствую себя порочной…
Сейчас Рено тянет время, перед тем как оставить нас там. Он разливает чай, садится, выкуривает сигарету, болтает, встаёт, чтобы поправить рамку или сбить щелчком моль с бархатного молитвенника… Словом, даёт понять, что это его квартира. А когда он наконец собирается уйти, делая вид, что торопится, и извиняется, то возражает Рези. «Да нет, побудьте с нами ещё немного!..» Я же не говорю ни слова.
Я не принимаю участия в их разговоре: сплетни, пересуды, шутки, которые очень скоро становятся фривольными, прозрачные намёки на свидание с глазу на глаз, которое сейчас состоится… Она смеётся, близоруко щурится, грациозно покачивает головой, поводит плечами… Я вам клянусь – клянусь! – что шокирована, раздражена и оскорблена этим не меньше целомудренной девочки, разглядывающей непристойные картинки… Сладострастие – моё – не имеет ничего общего с лапаньем и тисканьем.
В светлой спальне, где витают, смешиваясь, ирисовый аромат Рези и резкий сладковато-шипровый запах Клодины, в огромной постели, впитавшей в себя запахи наших тел, я молча мшу за столько тайных уколов и кровоточащих ран… потом, подстроившись под меня и заняв привычную позу, Рези начинает меня расспрашивать; её задевают мои краткие простые ответы, она жаждет узнать побольше и не может взять в толк, что я имею в виду, когда заявляю: раньше я была умнее, а теперь просто потеряла голову.
– А как же Люс?
– Ну, Люс ведь меня любила.
– И… ничего больше?
– Ничего! Вы находите, что я смешна?
– Нет, конечно, дорогая Клодина.
Положив голову мне на грудь, она задумывается. Её взгляд затуманивается, на неё нахлынули воспоминания… Если она начнёт рассказывать, я её ударю… В то же время я с нетерпением жду, когда она заговорит.
– Рези, ты себя не сохраняла до свадьбы?
– Наоборот! – подскочив, восклицает она, не в силах побороть желание говорить о себе. – Всё началось до смешного обыкновенно… У меня была преподавательница пения, крашеная блондинка, одни мослы… Поскольку у неё были глаза цвета морской волны, она считала себя вправе носить всякие модерновые штучки и мнила себя англосаксонской Сфингой[12]… Под её руководством я работала над голосом, с ней же я изучила всю гамму извращений… Я была юной, восторженной особой: только что вышла замуж и всего боялась. Я бросила уроки через месяц, да, равно через месяц, страшно разочарованная, после того как случайно подсмотрела через щёлку в двери, как эта Сфинга, перепоясанная воздушным шарфиком, уличала свою кухарку в том, что та якобы украла двадцать пять сантимов…
Рези оживляется, раскачивается, встряхивает своими шелковистыми волосами, улыбается своим воспоминаниям. Она сидит, прижавшись к моему бедру, свернувшись и поджав ногу; рубашка соскользнула у неё с плеча; похоже. Рези самой очень весело.
– А потом был кто, Рези?
Она умолкает, взглядывает на меня, закрывает рот и наконец решается.
– Потом была одна девушка.
Я вижу по её лицу, что она кого-то пропустила.
– Девушка? Правда? Как интересно! (Так бы её и укусила!)
– Да, интересно… Но я так настрадалась! Ни за что на свете не буду больше связываться с девушками!
(Сейчас она похожа на влюблённую девочку: уголки губ опущены, она зыдумалась и не замечает, что её плечо заголилось. С каким бы удовольствием я оставила кровавый отпечаток двойного ряда зубов на этом плечике, отливающем в полумраке перламутровым блеском!)
– Так вы её… любили?
– Да, любила. Но сейчас я люблю только вас, дорогая!
То ли её охватила настоящая нежность, то ли подсказал инстинкт, но она обхватила меня своими безупречно-гладкими руками, и я утопаю в её рассыпавшихся волосах. Однако я хочу услышать конец истории…
– …А она вас любила?
– Да разве я знаю? Ничто на свете, любимая Клодина, не может сравниться с жестокостью, холодной и пытливой требовательностью молоденьких девушек! (Я имею в виду порядочных девушек: остальные не в счёт) Они не знают страдания, жалости, справедливости… Вот и та моя девушка, ещё более требовательная и жадная до удовольствий, чем молодая вдова, могла в то же время заставлять меня ждать неделями, соглашалась со мной увидеться только в семейном кругу, упивалась моей печалью: я ловила на себе её жёсткий взгляд, не портивший её хорошенького личика… А спустя две недели я узнавала, за что была наказана; причиной оказывалось то пятиминутное опоздание на свидание, то слишком оживлённый разговор с приятелем… И сердитые слова, резкие намёки, произносимые во всеуслышание, при всех, напоказ: сразу было видно, что она ещё не обжигалась!..

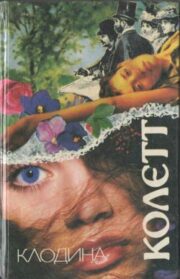
"Клодина замужем" отзывы
Отзывы читателей о книге "Клодина замужем". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Клодина замужем" друзьям в соцсетях.