Вот, наконец, последняя долгая трель, после которой звучит нечто вроде восклицательного знака, – и я слышу легкие удаляющиеся шаги.
– Рези! Он ушёл.
– Наконец-то! Подождём немного: возможно, нас выслеживают… Чтобы я ещё когда-нибудь сюда пришла!..
Какой печальный финал для свидания без будущего! Моя трусливая подруга так торопится со мной расстаться, подальше уйти от этого дома, из этого квартала, что я не смею предложить ей возвращаться вместе… Она выходит первой, пока я гашу опрокинутый цветок и собираю разбросанные подушки. Марсель смотрит на меня с портрета, высокомерно задрав подбородок и поджав накрашенные губы…
Сегодня передо мной сидит в чёрном коротком пиджаке оригинал компрометирующей византийской пастели. Он искрится от любопытства, как в те времена, когда его занимала история с Люс.
– Как прошёл вчерашний день?
– Спасибо. У вас там настоящий храм, достойный вас.
Он кивает.
– И вас – тоже.
– Нет, пожалуй, слишком изысканно. В особенности ваш портрет меня… заинтересовал. Мне было приятно узнать, что вам близка эпоха византийского императора Константина.
– Это скорее веление сегодняшнего дня… Так вы, стало быть, обе не лакомки: мой Шато-Икем, подарок бабушки, не соблазнил вас?
– Нет. Любопытство затмило все другие инстинкты.
– О, любопытство, – улыбается он той же улыбкой, что на портрете. – Какие вы хорошие хозяйки: когда я вернулся, всё было в идеальном порядке! Надеюсь, вас никто не побеспокоил?
Улыбка вспыхивает и мгновенно гаснет на его лице, он быстро взглядывает на меня и сейчас же опускает глаза… Ах ты, негодник! Так вот кто трезвонил в дверь или же нанял кого-нибудь с этой целью! Как же я сразу не догадалась?! Ну, ты меня не поймаешь, гадкий мальчишка!
– Отнюдь нет. Как и полагается в приличном доме. Кажется, один раз кто-то позвонил… впрочем, не могу утверждать. Я в это время целиком была поглощена… вашей богиней-гермафродитом со скрещёнными руками…
Это послужит ему уроком! Поскольку мы с ним оба отличные актёры, он напускает на себя довольный вид гостеприимного хозяина.
Письмо из Монтиньи я вынуждена прочесть вслух, чтобы понять, о чём говорится: сплошные каракули!
Что же ты к нам не едешь, девочка? Большой куст «каретных» роз вот-вот распустится. А молодой «ясень-капальщик» окреп. Наш господин всё такой же.
Что господин всё такой же – в этом я ничуть не сомневаюсь. И что ясень-плакальщик окреп – тоже хорошо. Большой куст инкарнатных роз скоро распустится… До чего же он хорош: разросся во всю стену… Зацветает он рано, пышно цветёт всё лето, то и дело выбрасывает благоухающие бутоны и увядает только к осени; деревце это умрёт, так и не исполнив своего предназначения… Куст инкарнатных роз вот-вот распустится. Эта мысль заставила меня вновь почувствовать, как крепко я связана с Монтиньи. Он вот-вот распустится!.. Я испытываю почти материнскую гордость, словно мне сказали: «Ваш сын завоюет все призы!»
Ко мне взывает вся дружная семья растений. Мой прадедушка, старый орешник, состарился в ожидании моего приезда. Под ломоносом скоро пойдёт звёздный дождь…
Нет, не могу я, не могу! Что станется без меня с Рези? Я не хочу оставлять на неё Рено; мой несчастный папуля такой любвеобильный, а она такая… любезная!
Увезти с собой Рено? Оставить Рези совсем одну в знойном Париже, это с её-то фантазией и страстью к интриге!.. Она мне изменит.
Боже мой! Неужели вот так час за часом, от поцелуя к ссоре, прошло уже четыре месяца? За это время я не сделала ничего, я провела четыре месяца в ожидании. Прощаясь с ней, жду новой встречи; встречаясь, жду, что удовольствие, растянутое или краткое, сделает её ещё красивее и хоть немного искреннее. Когда Рено с нами, жду его ухода; жду ухода Рези, чтобы поговорить спокойно, без горечи и ревности, со своим Рено; со времени нашей связи с Рези он, как мне кажется, стал любить меня ещё больше.
Всё к этому шло! Я заболела, и вот уже три недели выброшены коту под хвост. Инфлюэнца, переохлаждение, переутомление – пусть мой лечащий врач называет это как хочет: у меня был сильный жар и очень болела голова. Но я же крепкая!
Дорогой папочка Рено, до чего вы были со мной ласковы! Никогда ещё я не была вам так признательна за то, как предупредительно вы со мной говорили, тщательно подбирая выражения и обходя острые углы…
Рези тоже за мной ухаживала, несмотря на моё опасение показаться ей некрасивой: Я закрывала руками пылающее лицо. Несколько раз меня шокировали и её манера взглядывать на Рено, садиться «для него» на край моей постели, приподняв одно колено, и сама эта грациозная амазонка в соломенной шляпе, в платье, отделанном английской вышивкой, с бархатным поясом, и все её уловки, слишком кокетливые при посещении больной. Прикрываясь тем, что у меня жар, я как-то ей крикнула: «Уходи!», и она решила, что я брежу.
Мне также показалось, что Рено улыбается её приходу, будто порыву свежего ветра… Они обсуждают при мне то, чего я не видела, я с трудом слежу за их беседой и чувствую себя оскорблённой, словно они говорят на каком-то своём языке…
Я рассердилась на свою подругу за то, что она столь свежа и хороша собой, за её матовые ровные щёки. И хотя она любовно укладывала вдоль дивана, на котором я набиралась сил, тёмно-коричневые розы на длинной ножке, я бралась за зеркальце, спрятанное за подушками, и подолгу разглядывала своё бледное лицо, думая о Рези с ревнивой злобой.
– Рено! Это правда, что листва на бульварах уже порыжела?
– Да, правда, девочка моя. Хочешь съездить в Монтиньи? Там деревья ещё зелёные.
– Они слишком зелёные… Рено! Сегодня я могла бы выйти, я прекрасно себя чувствую. Я съела яйцо, потом целую отбивную, выпила бокал асти и поклевала винограду… Вы куда-нибудь собираетесь? (Стоя у окна своего «рабочего святилища», он смотрит на меня с нерешительностью.) Я бы с удовольствием вышла куда-нибудь с таким красивым мужем, как вы. Этот серый костюм очень вам идёт, а пикейный жилет подчёркивает ваши манеры обольстителя времён Второй империи, которые я так люблю… неужели нынче вы так молодо выглядите ради меня?
На его смуглых щеках проступает едва заметный румянец, он разглаживает длинные с проседью усы:
– Ты же знаешь, как мне больно, когда ты говоришь о моём возрасте…
– А кто говорит о вашем возрасте? Я, напротив, боюсь, что вы будете вечно молоды, и это похоже на врождённую болезнь. Возьмите меня с собой, Рено! Я чувствую такой прилив сил!
Моё архикрасноречие на него не действует.
– Нет, Клодина, коновал тебе сказал: «Не раньше завтрашнего дня». Сегодня пятница. Наберись терпения, воробышек. Ага, а вот и подруга, которая сумеет удержать тебя дома…
Он пользуется приходом Рези и исчезает. Я не узнаю моего папочку, так старательно пытающегося доставить мне удовольствие вопреки здравому смыслу… А врач этот – просто дурак!
– Чем вы недовольны, Клодина?
(Она так хороша, что я веселею. Голубая, голубая, голубая – и в то же время воздушная, словно вышедшая из голубой пены…)
– Рези! Должно быть, эльфы стирали своё бельё в той же воде, что и ваше платье.
Она улыбается. Я сижу, вплотную прижавшись к её бедру, и вижу её чуть снизу. Продолговатая ямочка в форме восклицательного знака делит её упрямый подбородок пополам. Её ноздри похожи на безупречный арабеск, которым я любовалась, рассматривая нос у моей Фаншетты. Я вздыхаю.
– Ну вот! Я хотела выйти, а этот осёл врач не разрешает. Оставайтесь хоть вы со мной! Подарите мне свою свежесть, поделитесь вольным воздухом, раздувающим ваши юбки и свистящим в вашей шляпке из листьев. Это шляпа или корона? Вы как никогда похожи сегодня на неотразимую венку, дорогая, благодаря пене ваших белокурых волос… Оставайтесь со мной, расскажите мне об улице, об обожённых на солнце деревьях… Вы хоть немножечко скучаете по мне?..
Однако она не садится и пока говорит вкрадчивым голоском, переводит взгляд от одного окна к другому словно в поисках выхода.
– О, до чего мне тяжело! Я бы хотела, любовь моя, провести рядом с вами целый день, особенно когда вы одна… Ваши губы уже забыли, верно, мои поцелуи!..
Она наклоняется и подставляет мне свой ротик; я вижу, как блестят её зубы, и отворачиваюсь.
– Нет, у меня как будто жар. Ступайте погулять. Я хочу сказать: отправляйтесь на прогулку.
– Мне не до прогулки, Клодина! Завтра годовщина моей свадьбы – ничего смешного в этом нет! – а я в этот день обыкновенно преподношу мужу подарок…
– Так что же?
– В этом году я забыла о своём долге признательной супруги. И вот теперь я убегаю, ради того чтобы мистер Ламбрук обнаружил нынче вечером под своей салфеткой в виде епископской митры хоть что-нибудь: портсигар, жемчужные пуговицы, футляр с динамитом – всё равно! Не то – три недели ледяного молчания, безупречного достоинства… Боже! – восклицает она, воздев кулаки к небу. – В Трансваале так нужны люди! Какого чёрта он торчит здесь?!
Её насмешливость и словоохотливость вызывает у меня недоверие.
– Рези! Отчего бы вам не доверить покупку безупречному вкусу лакея?
– Я об этом думала. Однако все слуги в доме, за исключением моей «meschine», подчиняются мужу.
(Видимо, она во что бы то ни стало хочет уйти.)
– Ну что же, добродетельная супруга, идите праздновать день Святого Ламбрука…
(Она уже опустила белую вуалетку.)
– Если я вернусь до шести часов, вы захотите меня видеть?
(Как она хороша, когда вот так наклоняется! Из-за резкого движения юбка обвила её ноги, и Рези предстала передо мной словно нагая… Меня охватывает лишь платоническое восхищение… Интересно: это результат моего выздоровления? Желание, как прежде, не сотрясает всё моё существо… И потом, она отказалась пожертвовать ради меня днём Святого Ламбрука!)
– Там будет видно. В любом случае можете подняться, и вам воздастся по заслугам… Да нет же, говорю вам, у меня жар!..
И вот я одна. Я потягиваюсь, прочитываю три страницы, прохаживаюсь по комнате. Сажусь за письмо папе, потом усердно полирую ногти. Сидя перед туалетным столиком, я время от времени бросаю взгляд в зеркало, будто на циферблат. В общем, выгляжу я не так уж плохо… Волосы немного отросли, меня они не портят. Белый воротничок, красная муслиновая рубашка в тонкую белую полоску – от всего этого веет пешей прогулкой, улицей… Я прочитываю решение в собственных глазах, едва взглянув в зеркало. Готово! Соломенная шляпа с чёрной лентой, куртка перекинута через руку, чтобы Рено не ругал меня за легкомыслие – я на улице.
Господи, ну и жара! Теперь меня не удивляет, что инкарнатные розы вот-вот распустятся… До чего я ненавижу Париж! Чувствую необычайную лёгкость: я похудела. Свежий воздух немного кружит голову, но если не стоять на месте и идти дальше, к этому скоро привыкаешь. В голове у меня мыслей не больше, чем у пса, которого вывели на прогулку после недели проливных дождей.
Я невзначай, почти автоматически направилась к улице Гёте. Вот чёрт!.. Улыбаюсь, подходя к дому номер пятьдесят девять, и бросаю доброжелательный взгляд на занавески из белого тюля, закрывающие окна в третьем этаже…
Что это?! Занавеска шевельнулась!.. Это едва уловимое колебание пригвоздило меня к тротуару, я так и застыла на месте. Кто это там «у нас»? Верно, ветер ворвался со двора через окно и приподнял тюль… Однако пока здравый смысл говорит одно, в душе у меня начинает шевелиться подозрение, и вдруг меня озаряет догадка, раньше чем я успеваю осмыслить происходящее.
Я перебегаю улицу, влетаю, словно в кошмаре, на третий этаж по ступеням, застеленным мягким, хорошо впитывающим влагу покрытием, в котором утопают ноги… Набрасываюсь на медную кнопку и звоню что есть мочи… Нет, они не откроют!
Я пережидаю, прижав руку к груди. Мне на память сейчас же приходят слова моей молочной сестры Клер: «В жизни всё как в книгах, верно?»
Я робко тянусь к кнопке и вздрагиваю, когда вновь раздаётся этот незнакомый звон… Проходят две долгие секунды, и я, словно маленькая девочка, заклинаю про себя: «Только бы не открыли!»
Но вот приближаются шаги, и ко мне возвращается мужество, а вместе с ним накатывает и злость. Недовольный голос Рено спрашивает: «Кто там?»
У меня перехватывает дыхание. Я держусь за стену, выкрашенную под мрамор, и чувствую, как камень холодит руку. Слыша, как приотворяется дверь, я хочу только одного – умереть…
…недолго! Надо, надо! Я Клодина, чёрт побери! Я Клодина! Сбрасываю сковывающий меня страх, словно пальто. Говорю: «Отворите, Рено, или я закричу». Смотрю прямо в лицо тому, кто открывает дверь; он одет. В изумлении отступает назад, обронив при этом одно-единственное и вполне умеренное слово: «Чёрт!», как игрок, которому не везёт.
Я снова так и застываю при мысли, что я сильнее его. Я Клодина! И говорю:

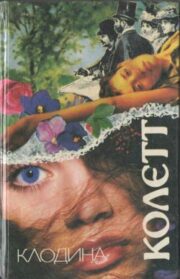
"Клодина замужем" отзывы
Отзывы читателей о книге "Клодина замужем". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Клодина замужем" друзьям в соцсетях.