Они долго сидели за кофе с сигарами, Адам и Грей рассказывали о своих детских годах. Чарли с интересом отмечал про себя, насколько по-разному они воспринимают одни и те же вещи. Грей давно смирился с тем фактом, что его приемные отец и мать были чудаковатыми эгоистами, а соответственно – никудышными родителями. И настоящего дома у Грея не было. Родители кочевали по свету, вечно в исканиях, неизменно бесплодных. А к тому времени, как они осели в Нью-Мехико и усыновили еще одного ребенка, Боя, Грей уже давно жил своей жизнью. Он виделся с Боем, когда изредка появлялся дома, но опасался привязанности. Он не хотел, чтобы что-нибудь в жизни объединяло его с родителями. В последний раз он виделся с Боем на похоронах родителей, после чего прервал с ним связь. Порой из-за этого его мучила совесть, но он вычеркнул из своей жизни всякие напоминания о своей непутевой семье. Само это слово – «семья» – для него ассоциировалось со страданиями. Иногда он задавал себе вопрос, что стало с Боем после смерти родителей. До сих пор Грею удавалось подавлять в себе порывы отыскать брата и взять на себя ответственность за него. Когда-нибудь он, может, и разыщет его, но не теперь. А может, этого и вообще не случится. И останется этот мальчик только в его воспоминаниях как славный и добрый ребенок.
У Адама тоже осталась обида на своих родителей. Их участие в его жизни, а точнее, отсутствие какого-либо участия, и царившая в доме гнетущая атмосфера вызывали его негодование. Главным воспоминанием его детства было то, как мать всех пилит, как придирается к нему, самому младшему, и как его все третируют, словно непрошеного гостя, поскольку он имел несчастье родиться так поздно. Он помнил, что отец вечно пропадал на работе. Да и как его винить? С тех пор, как Адам в восемнадцать лет уехал в Гарвард, он и сам дома почти не появлялся. Навестит на праздники – и скорее назад. С него и этого хватало. Он считал, что такая атмосфера в семье привела к тому, что они с братом и сестрой не питают друг к другу никаких родственных чувств. От родителей они научились только наводить критику, поглядывать друг на друга сверху вниз, придираться к мелочам и пренебрежительно отзываться об образе жизни того или другого.
– В нашей семье не было никакого взаимного уважения, – вспоминал Адам. – Мать отца в грош не ставила и вечно пилила. Думаю, отец ее в душе ненавидел, хотя ни за что в этом бы не признался. Да и мы, дети, никогда между собой не дружили. Сестру я считаю жалкой и скучной личностью, брат у меня – напыщенный кретин, его жена – в точности как наша мамаша, а они убеждены, что я якшаюсь с одними подонками и шлюхами. Никакого уважения к моей работе. Они толком даже не знают, чем я занимаюсь. Их не интересую я сам, зато очень волнуют мои, как они говорят, двусмысленные связи с женщинами. Я вижу свою родню только на свадьбах, похоронах и по большим праздникам, да и то лучше бы их всех не видеть. Детей к старикам возит Рэчел, так что хотя бы от этой обязанности я свободен. Они обожают Рэчел, причем так было всегда. Они даже готовы смотреть сквозь пальцы на то, что она вышла за христианина, главное для них то, что она воспитывает детей в еврейских традициях. Для них она вообще безгрешна, а я, напротив, не способен ни на что хорошее. К счастью, это меня уже давно не трогает.
– Что-то не похоже, ты ведь продолжаешь с ними видеться, – заметил Грей. – Значит, тебе не все равно. Может, ты до сих пор нуждаешься в их одобрении или подсознательно его ждешь. Это нормально, просто иногда приходится признавать, что наши родители на это не способны. Вот и получается, что в детстве, когда нам так нужна их любовь, мы ее лишены, они не умеют любить. Мои-то точно не умели. Думаю, на свой лад они к нам с сестрой хорошо относились, только они и понятия не имели, что значит быть родителями. Когда они усыновили Боя, я ему очень сочувствовал. Уж лучше б собаку купили! Думаю, когда мы выросли и разъехались, им просто стало скучно, вот они и взяли мальчишку.
И вот моя сестрица где-то в Индии живет с нищими под открытым небом. Она всю жизнь пыталась ощущать себя азиаткой, а теперь, наверное, считает, что наконец ею стала. Она ничего не знает о своем происхождении, да и родители не знали. Я о своем – тоже. До сих пор задаюсь вопросом, кто я и откуда. Думаю, в конечном итоге это и есть главный вопрос: кто мы такие, во что верим, как живем и как хотели бы жить?
– Чарли, а ты что скажешь? – спросил Адам. Он был не такой сдержанный, как Грей, и не боялся вторгаться в запретные пределы. – У тебя в детстве была нормальная семья? Мы тут с Греем соревнуемся, у кого родители хуже, и я пока не понял, кто на первом месте, он или я. Мои, похоже, оказались не способны дать мне больше, чем его музыканты. – Они уже изрядно выпили, и разговор пошел откровенный.
– У меня были идеальные родители, – вздохнул Чарли. – Любящие, щедрые, добрые, чуткие. Я от них слова дурного не слышал. Мать была самая нежная и душевная женщина на свете. Заботливая, веселая, красивая. А отец – настоящий мужчина. Для меня он был примером во всем, я его воспринимал как героя. Чудесные были родители, и детство у меня было замечательное. А когда они погибли, моя счастливая жизнь закончилась. Истории конец. Шестнадцать лет счастья – и вот мы с сестрой одни в большом доме, много слуг и фонд, которым надо учиться управлять. Сестра ради меня бросила Вассар и два года замечательно обо мне заботилась, пока я не поступил в колледж. Она всем пожертвовала ради меня. Боюсь, за эти годы у нее и парня-то не было. Потом я уехал в Принстон, а она уже была больна, только я об этом тогда не знал. А потом умерла и сестра. Трех самых дорогих мне людей не стало. Я вот слушаю вас обоих и думаю, как мне повезло – нет, дело не в состоянии. У меня были чудесные родители, замечательная сестра. Но близкие люди умирают, твоя жизнь теряет опору, и все меняется. Я все готов отдать, чтобы их вернуть, но такой возможности жизнь не дает. Надо играть теми картами, какие у тебя на руках. А кстати, как насчет рулетки? – вдруг оживился Чарли, сменив тему.
Друзья лишь молча покивали. И Адам, и Грей понимали, почему Чарли боится серьезных отношений и не заводит длительных романов. Он боится привязаться к человеку и потом его лишиться. Он и сам это понимал. И тысячу раз обсуждал это со своим психотерапевтом. Но это ничего не меняло. Сколько бы он ни ходил на эти консультации, родителей не вернешь, боль утраты и давние страхи глубоко сидели в нем, и никакая успешность не избавляла его от собственного одиночества. Он страшился новых потерь, вот почему он не спешил отдавать свое сердце на заклание. Поэтому он деликатно, но твердо уходил первым. Чарли еще не повстречал такой, ради которой готов был бы идти на риск, но верил, что когда-нибудь встретит. А вот Адам и Грей в этом сомневались. Они считали, что Чарли так и останется бобылем. А поскольку такого же мнения каждый из них был и о себе, то они особенно дорожили своей мужской дружбой. В их дружбе была преданность и стабильность, которой им так не хватало и в детстве, и во взрослой их жизни.
Чарли играл в баккара, а Грей следил за игрой Адама в очко, после чего все трое перешли к рулетке. Чарли поставил немного от имени Грея, и тот выиграл три сотни долларов, поставив на черное. Сотню он тут же вернул Чарли, который ни за что не хотел ее брать.
На яхту они вернулись в два часа ночи и сразу разошлись по каютам. Завтра они двинутся в Портофино. Чарли уже отдал указания капитану отплывать, не дожидаясь, пока они встанут, часов в семь. Тогда на место они прибудут вскоре после обеда, и останется время прогуляться. Портофино был излюбленным пунктом их летнего маршрута. Грея восхищала архитектура, в особенности он восторгался церковью на вершине горы. Чарли импонировали раскованная атмосфера итальянского курорта, здешние рестораны и сами люди. Это было удивительно красивое местечко. Адам обожал здешние магазины и отель «Сплендидо» на склоне горы, с видом на гавань.
Ему нравился и крохотный порт, и роскошные молодые итальянки. А сколько здесь было очаровательных туристок, приехавших со всего света! Для каждого из них это место было наполнено своим очарованием, и когда они расходились по каютам, блаженные улыбки не сходили с их лиц в предвкушении завтрашнего прибытия в Портофино.
Глава 3
В Портофино прибыли в четыре часа дня, когда магазины и лавки открывались после сиесты. Поскольку киль у яхты был слишком глубок, пришлось бросить якорь за пределами порта. Люди с соседних яхт активно купались, их примеру последовали и друзья, когда проснулись. К шести часам вечера подошло еще несколько крупных яхт, вокруг них царила праздничная атмосфера. Стоял дивный вечер, залитый золотым светом. Подошло время ужина, но никому не хотелось покидать палубу. Друзья, довольные и расслабленные, наслаждались прекрасным видом. Кухня на яхте была превосходная, но рестораны в городе тоже были великолепны. Здесь было несколько отличных заведений, в том числе прямо в порту, среди многочисленных лавок и магазинов. А уж магазины в Портофино привлекали туристов не меньше, чем в Сен-Тропе: «Картье», «Гермес», «Вюиттон», «Дольче и Габбана», «Селин», несколько итальянских ювелирных фирм. Крохотный городок был настоящим средоточием роскоши, и вся жизнь концентрировалась вокруг порта, а сельские пейзажи и окрестные горы были достойны кисти живописца. Собор Сан-Джорджо и отель «Сплендидо» стояли на двух утесах по обе стороны от гавани, обращенных к морю.
– Бог ты мой, обожаю это место! – просиял Адам, наблюдая за происходящим вокруг.
С соседней яхты в этот момент в воду нырнули молодые женщины в купальниках без верха. Грей уже рисовал, а Чарли сидел на палубе и с блаженным видом попыхивал сигарой. Это был его любимый итальянский порт, и он был счастлив остаться здесь так долго, как захочет. Чарли был убежден, что Портофино даст сто очков вперед любому порту во Франции. И здесь было намного спокойнее, чем в Сен-Тропе, где приходится отбиваться от репортеров или проталкиваться сквозь толпу на улицах, когда народ вываливает из баров и с дискотек. В Портофино царил патриархальный дух, город был напоен очарованием, беспечностью и самобытной итальянской красотой. Чарли обожал этот город, как и двое его друзей.
В город они отправились в джинсах и футболках, заказали столик в очаровательном ресторане недалеко от центральной площади, где уже бывали в предыдущие годы. Там их сразу узнали, ведь «Голубая луна» пользовалась известностью. Им выделили столик на веранде, откуда было удобно наблюдать за прохожими. Друзья заказали пасту, морепродукты и крестьянское вино. Грей самозабвенно рассуждал о местной архитектуре, когда из-за соседнего столика послышался женский голос.
– Двенадцатый век, – уточнила женщина. Грей в эту минуту рассказывал приятелям о соборе Сан-Джорджо и отнес его к четырнадцатому веку. Услышав реплику, Грей оглянулся. За соседним столиком сидела высокая, яркая женщина. На ней была красная блузка и пышная белая юбка. Темные волосы были заплетены в косу. Глаза зеленые, золотистая кожа, тронутая легким загаром. Поймав взгляд Грея, она рассмеялась. – Прошу прощения, – извинилась она, – это было невежливо. Просто я хорошо знаю, что замок был построен в двенадцатом, а не в четырнадцатом веке, вот и рискнула вас поправить. И вы, конечно, правы, этот замок – просто чудо, один вид чего стоит. Нигде в Европе больше нет такой красоты. Вообще-то, замок перестраивался в шестнадцатом веке, но построен был в двенадцатом. Не в четырнадцатом! – повторила она с улыбкой. – И собор тоже был выстроен в двенадцатом. – Женщина бросила внимательный взгляд на его футболку с пятнышками краски и, похоже, определила, что он художник. Ее слова прозвучали без малейшего высокомерия, скорее с долей смущения.
Женщина была настоящей красавицей, даже ее возраст – ей, скорее всего, было за сорок – не менял этого впечатления. Она сидела за большим столом в компании французов и итальянцев и свободно говорила с ними и на итальянском, и на французском.
– Вы искусствовед? – поинтересовался Грей.
– Нет, не искусствовед, – ответила она. – Просто любопытная особа, которая бывает здесь каждый год. У меня галерея в Нью-Йорке. – В этот момент Грей узнал женщину. Это была Сильвия Рейнолдс, известная личность в художественных кругах Нью-Йорка. Она дала путевку в жизнь нескольким современным художникам, которые теперь считались значительными фигурами в живописи. По большей части она выставляла авангардистские полотна, не имеющие ничего общего с тем, что писал Грей. Он не был знаком с Сильвией лично, но слышал о ней, несколько раз видел на вернисажах и уважал за то, что она делает. Она с дружелюбной улыбкой кивнула ему и оглядела двух его товарищей. В ней с первого взгляда чувствовались энергия и увлеченность. Ее руки украшали серебряные браслеты с бирюзой, и весь ее облик, ее стиль, говорили о большом вкусе. – А вы – художник? Или испачкались, когда дом красили? – Робкой ее никак было не назвать.

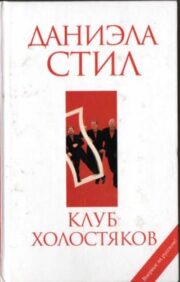
"Клуб холостяков" отзывы
Отзывы читателей о книге "Клуб холостяков". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Клуб холостяков" друзьям в соцсетях.