– Кому? Соне?! Да она же ребенок!
– Да не Соне, дубина ты стоеросовая! Вере Михайловой, матери ее!
– А…. А ты почем знаешь? Я ее днями видал, ничего такого…
– Да вот уж знаю. Я еще малой всегда догадывалась, когда матка в тяжести становилась. Едва ли не с первых дней. Дар у меня такой… А у Веры Михайловой я все буду делать, и по дому, и с младенцем… Смогу угодить, тогда и братьев с сестрами поднять сумею. И… Соня меня обещала читать научить…
– Манька, а как же я? – жалобно спросил Влас, с нарастающим изумлением слушающий про мечты всегда молчаливой подружки. – Мне-то где здесь место?
Манька встала на цыпочки, обхватила парня за шею и крепко поцеловала в губы.
– Тебя я ждать буду, Влас. Ты, когда все утихнет, возвращайся с Алтая-то. Или уж за мной приезжай. Как братья-сестры подрастут, так я с тобой хоть в Америку, хоть в Китай поеду. Если ты, конечно, сам меня не позабудешь.
– Не забуду, Манька, вот тебе истинный крест, не забуду! – Крошечка перекрестился и, неловко облапив девушку, сильно прижал ее к себе.
На глазах у парня стояли слезы. Манька тоже плакала. Давая друг другу клятвы, оба в душе полагали, что прощаются навсегда. Из тех, кто уходил из приишимской тайги на Алтай, в таинственные общины «каменщиков», никто и никогда еще не возвращался назад. Вряд ли суждено вернуться и Крошечке Власу и двум его товарищам, бывшим разбойникам, с которыми он и уходил нынче в ночь, чтобы не столкнуться с казачьими патрулями, которые все еще старались ловить остатки разбитой банды (за каждого пойманного разбойника в полиции платили полтора рубля. А если тот еще и числился беглым, то награда возрастала до трех рублей).
Потом Влас уходил, сгорбившись и глотая горькие слезы, а Манька стояла и смотрела ему вслед, застыв от горя и держа на весу тяжелые, красные руки, потерявшие вместе с Крошечкой последнюю опору, которая была у нее в жизни.
Прятавшийся в кустах Карпуха тоже размазывал злые слезы по грязным щекам, и давал себе страшные клятвы, что никогда не обидит сестру, которая ради них отказалась от своего личного счастья, и будет во всем помогать ей, а на следующий сезон он и Ванька наймутся на вскрышку торфа и сами себе заработают на кусок хлеба. Ленку можно определить подносить пустые бадьи, добавив ей пару лет, а Егорку… Егорка, который уродился слегка слабоумным и плохо понимал, что происходит (так, он совсем не мог взять в толк, куда и зачем уходит Влас, который иногда играл с ним и даже пару раз давал пососать кусок бурого сахара), плакал на всякий случай, за компанию. Карпуха зажимал ему рот вонючей ладонью, и делал злые глаза. От этого Егорка плакал еще сильнее.
ЗАПИСКИ ИНЖЕНЕРА ИЗМАЙЛОВА, ПИСАННЫЕ НА СЛУЧАЙНЫХ ЛИСТКАХ И НЕИЗВЕСТНО, ДЛЯ ЧЕГО.
Вот, тетрадь пропала, а привычка писать осталась. Пустая, в сущности, привычка. Никакого проку от марания бумаги нет и не видно. Умнее и проницательнее я от этого, по крайней мере, не стал. Но куда она (тетрадь) могла подеваться – просто ума не приложу. Пришел забрать через день – ветошь на полу валяется, щель пустая. Не могли же мыши съесть? Кто ее нашел? Что с нею сделал? Испытывал отчетливое неудобство от пропажи, и наличия красной тетради где-то, в чьих-то руках. Теперь, в связи с последующими событиями, все это уж минуло.
После несостоявшегося бунта был почти доволен собою и горд. Как же, в кои-то веки раз сумел своею волей оборотить стихийно разворачивающиеся события всем на пользу. То же и Марья Ивановна в разговоре подтвердила. Серж Дубравин при той беседе не присутствовал. После открытия, почти случайного, что я о нем все знаю, он меня как будто избегает, что, впрочем, можно и понять, если не счесть трусостью. Хотя я бы на его месте, не в силах терпеть, шагнул бы навстречу, чтобы объяснить и выяснить все хоть как. А теперь? Он же не ведает, что я по поводу мне известного предпринять намерен. Или как раз через Марью Ивановну надеялся вызнать? На то непохоже.
Марья Ивановна поила меня чаем с плюшками не в кабинете, как уже случалось, а в своей комнате, где рояль. Чуть скошенный с одной стороны потолок, тяжелые занавески с неожиданными рюшами, салфетка с трогательным спиральным петухом, вышитым красными нитками по сибирскому канону, – все вместе как-то вдруг напоминает мелодию девичьей светелки, едва звучащую, почти задушенную какой-то тяжелой тайной. Впрочем, почему «какой-то»? Все тайны мне теперь известны. И право, ни с кем из них я бы, при всей смутности моей собственной жизни, меняться не стал ни за какие коврижки.
Едва ли не при встрече, после положенных по случаю комплиментов (я, естественно, шаркал ножкой и бормотал «ну что вы, ну что вы…»), Марья Ивановна одарила меня взглядом, похожим на вздох сожаления. Я вежливо вздохнул в ответ. Далее встреча за рамки официальности почти не выходила.
Говорили обиняками. Я быстро от того устал. В какой-то момент показалось, что беседую с Верой Михайловой, причем в худшей ее ипостаси. Знаю не все тайны? Быть может, и так, но это уж мне теперь безразлично.
После нашли нейтральную, как показалось, тему.
– Где же ваша знаменитая красная тетрадь?
– Я ее потерял.
– Как же это случилось?!
– Да вот так уж.
– Жаль.
– Отчего же вам жаль? Вы ведь не знаете, что там…
– Могу только гадать. Но… она, как и тетрадь Матвея Александровича, уже вжилась в символику нашего городка. Терять символы вдвойне обидно…
– Господи Боже, но ведь это же моя тетрадь!
– Неправда, точнее – не вся правда. Ваша тетрадь уже немножечко принадлежала всем нам. Каждый строил относительно нее свои догадки. Каждый… как бы участвовал в этом… Вы понимаете меня?
– Возможно, да. Речь идет о том, что каждый из нас всю жизнь пишет свою красную тетрадь, даже если она не существует в реальности. А окружающие люди, те, кто встречает нас на своем пути, кто нас любит или ненавидит, пытаются ее прочесть. Иногда им удается угадать, иногда получается совсем ерунда, как в случае с Матвеем Александровичем. Его ведь, наверное, никто, кроме Веры Михайловой, не понимал…
– Еще Софи. Софи Домогатская. Она не понимала, но как-то по-звериному чувствовала его. Могла предугадывать его поступки, даже немного управлять… Кстати. Скажите же мне, наконец: вы знали Софи в Петербурге? Вы как-то всегда так неопределенно отверчивались…
Я подумал: отчего я должен хранить чужие тайны, которые мне, к тому же, никто не поручал? Домогатская и ее судьба здесь – в числе тех самых тетрадей, если не сказать, как уже было сказано – всеобщее наваждение. Почему бы и мне не вписать в эту летопись свой абзац, тем более, что любезную хозяйку это непременно позабавит, да и впоследствии даст егорьевцам немало пищи для сплетен.
– Я лично не имел чести знать Софью Павловну, – сказал я. – Но мой дядя, Андрей Кондратьевич Измайлов, который фактически вырастил меня, он знал ее.
– И что же? – Машенька подвинулась на сиденье вперед, умостилась на самом краешке и отчего-то вдруг уцепилась рукой за трость, до того праздно прислоненную к боковине комода.
– Мой дядюшка – из числа петербургских промышленников. Он тесно и много лет сотрудничал с неким Тумановым. Туманов был птицей покрупнее, но, как бы это сказать… более сомнительной, что ли? Кроме фабрик, банка, верфи и прочих, вполне промышленных вещей и заведений, ему принадлежал, к примеру, один из самых модных в Петербурге игорных домов, с прилагающимся к нему борделем. Сам он вылез своими силами откуда-то из зловонной петербургской клоаки, и методами достижения преуспеяния никогда не гнушался. При том талантлив был, по отзывам дяди, чертовски. Вот именно это деловое чутье, которое, по слухам, и вашему отцу было присуще… Женщин и романов у этой несомненно демонической фигуры всегда насчитывалось больше, чем ему, по видимому, было надо…
– И что же – Софи? – жадно спросила Машенька.
– А вы еще не догадались? Софи, по слухам, познакомилась с ним при самых диких, но романтических обстоятельствах. Кто-то куда-то стрелял, кого-то ранили, кого-то убили… Потом они несколько раз сходились и расходились. От их скандальной связи целый сезон лихорадило весь петербургский свет. В конце концов, по словам дяди, она его уничтожила.
– Софи уничтожила Туманова? Как это? Почему?
– Просто выпила его, как стакан вина. Кто-то из конкурентов или отвергнутых поклонников Софи сжег игорный дом. Туманов бросил все и бежал за границу. Там искал смерти, и, по слухам, погиб где-то в горах. Не то в Грузии, не то в Армении. Дядя до сих пор жалеет о нем. Говорит, что такого компаньона у него больше никогда не будет…
– А Софи, значит…
– А Софи по мотивам пережитого написала роман, который имел успех не меньший, чем «Сибирская любовь». А может быть, и больший, так как страсти в нем получились более зрелые и откровенные, а сюжет более прихотливый. Еще до того, как вы знаете, она спокойненько вышла замуж за своего давнего жениха и родила ребенка…
– Боже мой… Но, честно говоря, что-то подобное я и предполагала. Не очень-то мне и верилось в ту пастораль, о которой со слов Веры рассказывала тетка Марфа. Софи была просто обречена на подобную историю…
– Увы! Обреченным в этой истории вышел Туманов.
– Да, да, конечно… Софи просто берет живую человеческую судьбу и превращает ее в роман. Как это… пикантно, – с какой-то злобной мечтательностью заметила Машенька. – Право, в этом есть что-то даже мистическое. Мой муж… Конечно! Как это раньше не пришло мне в голову! Он похож на брошенный автором литературный персонаж, о котором забыли и который никому более неинтересен. Он потерял даже свое имя…
– Простите, – возразил я. – Но насколько мне известно, имя он потерял вовсе не посредством усилий Софи Домогатской…
– Конечно… конечно… но… Вы теперь все знаете. Вы… донесете на него?
Глагол, который она выбрала, заставил меня вздрогнуть так сильно, что донышко чашки громко и неприлично ударило о блюдце. Черт возьми! Вот задача из области психической жизни: может ли боятся обвинения в воровстве человек, который ни разу не украл? Вроде бы, согласно логике, нет. Но… В конечном итоге я разозлился на Марью Ивановну. Почему это я должен чувствовать себя виноватым в давнем мошенничестве ее мужа?!
– Нет! Я не собираюсь ни на кого доносить! – резко сказал я. – Это ваши дела. Разбирайтесь с ними сами!
Марья Ивановна облегченно вздохнула и тут же отвлеклась от затронутой темы, возвращаясь к предыдущей. Софи и более близкий для нее территориально персонаж – Вера Михайлова.
«Андрей Андреевич, скажите мне. Что такого необыкновенного в этой сумасбродной девице и ее бывшей служанке, бывшей крепостной девке? Почему такие разные люди буквально сходят от них с ума, готовы жизнь кинуть к их ногам?»
«Всего лишь подлинность и бескомпромиссность страстей, милостивая государыня. Всего лишь. Они не торгуются и не взвешивают чувства, и потому напоминают людям о давно ушедших или никогда не бывших временах – временах мифа.»
Мне видно было, как она проживает историю Софи Домогатской, и свою собственную фантазию, додумывая неназванные мною подробности. Потом, по-видимому, примеряет ее на себя. Тускловатые обыкновенно глаза хозяйки приисков засветились волнительным голубым светом. Верхняя губа задвигалась, как у жующего кролика. Белокурые локоны, словно сами собой, полезли из-под накидки. Очевидно: меня уже было не надо, так как процесс пошел сам собою. Довольный достигнутым, я откланялся.
Во дворе встретил Петю Гордеева, как всегда сильно нетрезвого, с неизменным ягдташем через плечо. Петя доброжелательно улыбнулся мне, помахал рукой и, не без затруднений обойдя меня (он так долго примеривался, с какой стороны это лучше сделать, что мне даже пришлось остановиться), скрылся в собственном доме. На мгновение я вдруг позавидовал ему. Живет в самом центре егорьевских интриг и тайн и, насколько я знаю, умудрился ни в чем не замараться, никого не предать. И способ для того выбрал наипростейший, надежный, без всяких изысков. Любит, любим, свои радости и горести несет не без достоинства даже, никого ни в чем не виня. Писем Софи Домогатской наверняка не пишет. «Предстанет перед Господом пьяненький, но чистый», – мысленно сострил я.
До сумерек так и посмеивался в усы и радовался собственной ловкости и смыслености.
Когда небо чуть зазеленело, раздался стук в дверь. Открыл и никого не увидел. Опустил глаза и только тогда разглядел Зайчонка. Осмотрелся кругом, но старших брата и сестры не было видно. Девочка между тем протянула мне обрывок бумаги и убежала.
Уже в комнате, надев очки, с трудом прочел корявые, наползающие друг на друга буквы: «ИЗМАИЛ ЕЖАЙ НА РАЗБИТОЕ СЕРЦЕ ДО РАЗВИЛКИ ПАТОМ НАПРАВА ГДЕ ТРИ СОСНЫ ИЗ АДНАВО КОРНЯ ИДИ В ЛЕС ВСЁ УВИДИШ».

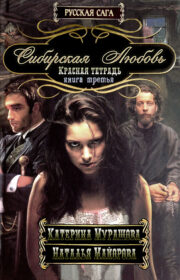
"Красная тетрадь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Красная тетрадь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Красная тетрадь" друзьям в соцсетях.