По всем правилам и опыту жизни я должен был принять записку за детскую игру и, усмехнувшись ребячьим забавам, тут же забыть обо всем. Но… отчего-то сразу просто-таки могильный холод змеей прополз у меня по спине. Внутри железным прутом заледенел страх. Дрожа губами и пальцами, я пошел седлать коня. Если бы был верующим, непременно бормотал бы охранительную молитву. Хотя уже откуда-то знал: не поможет!
У трех сросшихся сосен я спешился и хотел вести коня в поводу, благо, лес позволял. Однако, всегда смирный коняшка храпел, упирался, словно чуял что-то недоброе.
Привязав его к сосне, я медленно пошел один, не имея ни малейшего представления о том, что ищу, и не в силах избавиться от холодного, липкого страха.
Нашел, как и обещал мой корреспондент, быстро.
Гавриил Давыдов лежал лицом вниз, придавленный упавшим на него деревом. Упало оно отнюдь не само. Последние сомнения оставили меня, когда в быстро сгущавшихся сумерках я прочел плакат, оставленный на теле жертвы.
«НЕ АРХАНГЕЛ НО ПРОВАКАТОР»
Я не госпожа Домогатская, и литературные красоты и прочие метафоры в описании чувств мне недоступны. Когда я все это увидел, осмотрел и понял, что Гавриил умер отнюдь не сразу, меня просто вывернуло наизнанку.
От мысли, что все это устроили дети (!!!), хотелось выть и грызть землю.
Но изменить уже ничего было нельзя, и надо было как-то действовать дальше. Пытаясь таким чудовищным способом реабилитировать мое доброе имя, ребята, разумеется, не сообразили, что одновременно с головой выдают сами себя. Поэтому я первым делом вынул в стороне кусок мха, развел небольшой костер и сжег бумагу-улику. Потом уложил мох на место и заровнял края. Пусть лучше егорьевская (и прочая «передовая») общественность навсегда считает меня доносчиком и подлецом, чем окажется лицом к лицу с таким вот, поистине кошмарным, преступлением.
Потом я еще раз, сдерживая продолжающиеся желудочные спазмы, придирчиво осмотрел место происшествия. Если полиция не будет слишком въедлива, то вполне может сойти за несчастный случай. Интересно, чем они его сюда заманили? Что пообещали рассказать? Показать? Этого я уже никогда не узнаю. Гавриил Давыдов… Теперь, задним числом я и сам припоминаю всякие подозрительные мелочи в его словах и поведении, на которые должен был бы обратить внимание, но не обратил… Но как же они-то догадались, что он работает на жандармов? Как сумели выследить и вообще понять, что происходит? Ведь все считают их слабоумными. А они? Маленькие смышленые чудовища, воюющие на моей стороне… Боже мой, ну чем я все это заслужил?! Какой такой грех висит на мне, что даже сбежать мне и то не удалось?… Выходит, не зря бедняга Гавриил боялся их. Чувствовал что-то?
Именно в этот момент, стоя у тела убитого провокатора, я понял, что никогда не смогу жить в Сибири. Слишком дикий для меня край, слишком свободный в выражении своей любви и ненависти. Из привязанности ко мне Лисенок и Волчонок убили Гавриила. Из странной смеси любви и ненависти мирный инженер Опалинский превратился на этой земле в опасное чудовище и погубил бог весть сколько жизней. И прочее, и прочее, и прочее. Здешняя нескованность условностями цивилизации непосильна для меня. Здешние «красные тетради» почти нечитаемы. Только вдали отсюда, в романах, извольте, с удовольствием. А так – снова бежать. Обратно в Россию. Что и как там меня ждет, я не ведаю, но и здесь оставаться, глядеть в глаза этих детей, я просто не могу. Пусть я тысячу раз трус и ничтожество, но – не могу!
Приняв решение, отправился назад по тракту, чтобы известить исправника о трагической гибели Гавриила Давыдова.
Едва проехав треть пути, встретил Василия Полушкина, который медленно, почти отпустив поводья, ехал мне навстречу и, видимо, по своей привычке любовался подсолнухами, которые парадоксальным образом были видны даже в почти полной темноте.
Надо думать, что Вася, как и некоторые другие известные мне местные жители, видит в темноте. Далеко не доезжая до меня, он окликнул меня следующим образом:
– Что случилось, Андрей Андреевич? На вас лица нет!
В двух словах я нарисовал ему свою версию трагедии (разумеется, я говорил о несчастном случае). Василий сочувственно качал головой, цокал языком, но, кажется, не особенно удивился или опечалился.
– Если желаете, я могу сам известить полицейских, – предложил он. – Вам ведь, кажется, нехорошо. А у меня все равно особых дел нет. Вот езжу, любуюсь…
Я поспешно и малодушно закивал, едва ли не подобострастно бормоча слова благодарности.
– Вот и договорились, – кивнул Василий. – Едемте. Я в полицию, а вы домой – отдыхать и в себя приходить. Место, о котором вы говорили, я знаю прекрасно, и легко укажу. А уж завтра, коли им надобно, они вас по делу и опросят…
Некоторое время ехали молча. Молчание, а скорее, собственные думы, тяготили меня, как мешок с каменьями на загривке.
– Василий! – заговорил я. – А эти ваши подсолнухи, что они такое?
– Дорога свободы, – усмехнулся Полушкин.
– Что?!
– Когда-то, еще в школе, Левонтий Макарович рассказал мне, а после я и сам читал в книге. Эти люди жили в Америке, называли себя мормонами, верили в Христа, но как-то по-особенному. Спасаясь от гонений, они покидали Миссури, и уходили через континент в поисках необжитых мест, чтобы основать свой собственный город. Так вот, дорогу, по которой они шли, они называли «дорогой свободы», и обсаживали ее подсолнухами, чтобы те, кто захочет пройти за ними вслед, могли найти их счастливый город…
– Красивая история, – согласился я. – Но вы, Василий…
– Я с самого детства, всегда мечтал заниматься наукой, учиться в Петербурге. Но… Сами знаете: человек предполагает, а Бог располагает…
– Василий, что вас держит здесь теперь? Разве у вас не достанет денег, чтобы уехать?
– Простите, Андрей Андреевич, но я не хотел бы сейчас говорить на эту тему… Может быть, в другой раз…
Внутренняя сила и внутреннее достоинство в молодом подрядчике было того сорта, который с самого начала исключал всякую фамильярность. Право, только моя собственная (вполне, впрочем, понятная, но оттого – ничуть не извинительная) минутная развинченность позволила мне столь бестактно полезть в душу к малознакомому, в сущности, человеку.
– Простите и вы меня.
– Не стоит. Я бирюк, как многие сибиряки, не берите в голову. К тому же наши побудительные мотивы не всегда легко выразить словами…
– Как вы правы! – воскликнул я с фальшивым воодушевлением и снова ощутил пригасшие было движения желудка. На этот раз меня тошнило от самого себя.
Пришел домой, но как-то не находил места. Ноги сами собой вынесли на улицу, принесли к дому Веры Михайловой. О чем хотел говорить? Зачем? Теперь уж не вспомнить. В окнах светло, стало быть еще не спят. Стоял у крыльца, кто-то из собак почуял – взгавкнул. Дверь отворилась, на крыльце – Соня, тоненькая, как былинка, на голове банты, за спиною свет, похожа на эльфа с картинки. Не удивилась, не испугалась, ничего.
– Андрей Андреевич? Вы к маме? А она на кладбище к Матвею Александровичу пошла. Тут недалеко, если у вас что срочное, – пройдите туда. А может, подождете туточки? Я чаю подам…
– Нет, спасибо, милая.
Кой черт понес меня на кладбище?! Глупость!
Пахло отчего-то мокрым сеном. Вера стояла на коленях, но выпрямив спину, в какой-то очень гордой и одновременно спокойной позе. «Как у себя дома,» – так мне отчего-то подумалось. Во всех других положениях, где я ее видел, чувствуется в ней все время какое-то напряжение. А здесь – не было его.
Говорила вслух, громко, но я сначала не понимал, и сообразить не мог, отчего не понимаю. Потом только дошло – говорит по-французски. Когда-то я французский учил, но практики не было, помню плохо. Потому понимал с трудом. А уж перевод стихами (а то были стихи!) на русский мне и вовсе не под силу. Отчего-то сразу догадался, что стихи – ее собственные, Верины.
Где-то так:
«Тысячи звезд я вижу на небе
И самая яркая из них – ты,
Тысячи листьев шумят в кроне дуба,
И один из них листок – ты,
Тысячи серых гусей летят весной на север,
Вожак самой большой стаи – ты.
Тысячи людей ежедневно
сжимают друг друга в объятиях
И говорят друг другу слова любви.
Все они творят нашу с тобой любовь,
Но не знают об этом.
Благослови их Господь!»
Я, разумеется, тихо ушел, не сказавшись. И снова, уже окончательно, понял: уеду! Уеду при первой же возможности!
Февраля 25 числа, 1893 г. от Р. Х., г. Егорьевск, Тобольской губернии, Ишимского уезда.
Дорогая Софья, приветствую.
Леокардия Златовратская пишет к тебе с просьбой. Помнишь ли еще? Скорее – позабыла давно, но это не важно.
Мы живем помаленьку. Беды не обходят стороной. Ипполита арестовали за противоправительственную и прочую нелегальную деятельность. Удивляться не приходится – к тому шло. Содержат в Тобольске. Надя там же. Служит при лазарете, через то доставляет мужу всякие послабления. Живы, здоровы, и слава Богу. Написали прошение на высочайшее имя, но я не слишком надеюсь.
Аглая служит в школе и по-прежнему путается с кабатчиком Ильей (помнишь, ты все хвалила его таланты?). Талантов и вправду немало, кабацкое дело попечением Ильи Самсоновича процветает. Видела их с Аглаей вдвоем всего пару раз. Впечатление такое: весь мир вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Но вот чудеса: Аглая все скрывает. Даже от нас с отцом и от сестер. Отчего – не могу разобрать.
Летом на Мариинском прииске едва не случился бунт. До крови не дошло благодаря стараниям инженера, Надиного полюбовника. Теперь уж он от нас съехал обратно в Россию. Местные нравы оказались ему не нутру. Жаль. В нем была внутренняя мягкость, присущая лишь по настоящему сильным людям. Два раза за свою не слишком долгую жизнь он нашел в себе смелость развернуть лодку поперек уносившего его потока, повинуясь лишь своему собственному выбору и своим представлениям о должном. Большинству людей и один-то раз – не под силу. При том – вот удивительно! – сам он непрестанно корит себя за слабость и, никого не предав, считает себя предателем.
Твоих старых знакомцев – Сержа Дубравина и его бывшего камердинера Никанора – убили в тот же срок во время полицейско-войсковой операции.
Машенька закрыла один из приисков, на следующий год собирается закрыть второй. Пески истощились, что ж поделать? С ними словно и она сама истощилась. Похудела, спала с лица, виски внутрь провалились. Краше в гроб кладут. Может, заболела (я все Марию вспоминаю)? И Нади, как на грех, нету, полечить ее. Мне теперь признать приходится: дочь далеко вперед от меня в лечебном деле ушла. Талант у нее, упорство и знания. Если бы не дурь Ипполитова…
Про Веру ты, наверное, знаешь. Но кто ее разберет, может, и не сочла нужным сообщить? Удивительным образом она рожает своих детей. В самые неожиданные моменты. В этот раз получилась девочка. Мы все ходили смотреть – ничего категорически остякского в ней нету! Совершеннейший европеоидный тип. Вполне миленькая и крупная. Соня и Матюша-младший в сестренке души не чают. Веру почти и не подпускают. Да она и не рвется особо, на ней все дела остались. Наняла в помощь Сонечке няньку – ее же старшую сестру, и вся забота. Алеша молчит, трубочку сосет.
«Много детей, однако, хорошо,» – вот и все, что от него слышали. Как уж они там с Верой промеж собой, никто не знает.
Собственная его дочь, Варвара (помнишь, все улыбалась), сгинула аккурат в то же время, когда Дубравина убили и бунт. Куда, как – никто не знает. Алеша смертных обрядов не творил, значит, числит живой. Что там у них произошло и как обернулось? «Мангазея» при Илюшкином трактире осталась за Татьяной Потаповой, чему она немало рада, и возращения Варвары, кажется, не ждет вовсе.
Бедную попадью Фаню сослали в Ирбитский монастырь. Избыток женской стати и сути, которой она всегда отличалась, сыграл-таки с ней дурную, жестокую шутку. Андрей застал ее с урядником на квартире у Настасьи-бобылки, последней полюбовницы Ивана Парфеновича. Шума, надо отдать ему должное, поднимать не стал, и тихо сводить ее со свету домашним способом – тоже. Отправил подале, с глаз долой. Сам также принял послушничество, и скоро станет монахом. Всем уж понятное дело, что место в Крестовоздвиженском соборе – его, а старшие священники – с носом остались.

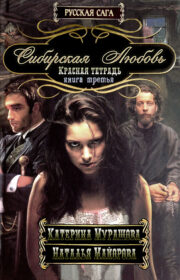
"Красная тетрадь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Красная тетрадь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Красная тетрадь" друзьям в соцсетях.