Вот только предадут они или нет – то еще у Аллаха на коленях. А сама Кёсем сейчас предать их никак не могла. Иначе до конца дней своих не сумеет она смотреть в зеркало.
Двое выслушали повеление своей госпожи. Поклонились одинаково – движения заучены были давно, въелись в плоть и кровь, стали привычкой. А вот подумала каждая о своем.
Хадидже-первая по старинной привычке прикрыла глаза длинными ресницами, отгородившись ото всех, и раздумывала. Пожалуй, результаты этих раздумий ее удовлетворили. Госпожа по-прежнему не потеряла здравого смысла, знает, что делает. Стало быть, можно, как и раньше, следовать за ней, не опасаясь подвоха или прямого предательства.
Предательство для бывшей храмовой прислужницы было не в новинку, но здесь и сейчас госпожа продолжала о ней заботиться. Это хорошо. Она по-прежнему будет служить этой госпоже, раз та верна ей. Не нужно срочно ничего менять, не нужно искать новую покровительницу.
Да и, скажем честно, события развиваются чересчур быстро, лишние проблемы абсолютно ни к чему. «Ведьма» – вот ведь скажут же люди! Но Аллах запрещает колдовство и ворожбу, так что напуганные происходящим, растерянные, озабоченные лишь спасением собственной шкуры мужчины с радостью примут эти глупости за чистую монету. Мужчинам нравится обвинять женщин в собственных бедах. И неважно, что, избавившись от валиде, они проблем не решат, а вместо одной беды получат на свои дурные головы десять новых, зато ведьму наказали! Большие, сильные мужчины, ведомые волей Аллаха… Воистину, кого бог жаждет покарать, того лишает разума. Вот только ни госпоже это не поможет, ни юным гёзде, которых тоже не пощадят. А как же – ведь если есть ведьма, стало быть, должны у нее быть и помощницы! Гёзде вполне сгодятся. Наверняка учились у нее соблазнять и губить мужчин – а иначе почему не донесли о том, что валиде обращается порой в летучую мышь или раздваивается? Небось, потому, что сами учились творить подобные непотребства! А убить гёзде куда легче, чем валиде-султан. Убить, убить мерзавок, пока совсем не извели султанский род! И доказательства подкинут, какие только будет нужно. Чернь же радостно проглотит все то, что напоют должным образом обученные лазутчики.
Так что и впрямь следует поумерить пыл. Госпожа во всем права. Даже если впоследствии спохватятся люди, даже если не будут во всем винить покойную валиде (что вряд ли!), а начнут сокрушаться, рвать на себе одежды и посыпать пылью головы (что, снова-таки, вряд ли) – разве мертвецам от этого легче?
Хадидже-вторая, однако, не разделяла благоразумных взглядов подруги. Бестрепетно смотрела она в глаза повелительницы и благодетельницы своей, а речь ее, хотя и казалась почтительной, но все же, по мнению Хадидже-первой, граничила с дерзостью:
– Валиде, госпожа сердца моего, святыня и опора моя! Что нам за дело до того, как глупые люди шепчутся меж собой? Если казнить пару-тройку самых бойких болтунов, остальные присмиреют. Пока в твоих руках судьба Высокой Порты, мы, смиренные прислужницы твои, выполним любое твое повеление, не колеблясь!
– Мало я тебя порола… – брови Кёсем нахмурились.
– Много! – храбро возразила маленькая смутьянка и пылко продолжила: – Султан слышит только твои слова, дети твои тебе всецело преданы и…
– И довольно на этом. – Голос Кёсем был тих, но решителен. Словно ножом, он обрезал сопротивление Хадидже-второй.
Осознав, что зашла слишком далеко, девушка склонилась в низком поклоне.
– Прошу простить неразумную служанку…
Хадидже-первая смотрела на происходящее безо всякого удовольствия. Что за блажь пришла подруге в голову? Перечить госпоже сейчас, когда она заботится о твоем же благе! Это настолько же неразумно, насколько и дерзко.
Не маленькой глупой девчонке-гёзде судить о преданности юных шахзаде и уж тем более – о султане. Точнее, судить-то каждая из них должна в пределах собственного разумения, чтобы, когда придет пора, не оплошать ни в выборе, ни в последующих действиях, вот только суждения эти следует держать при себе. А то, бывает, откроешь рот, когда не следует, глядь – а языка-то у тебя уже и нет, и хорошо, если голова на плечах осталась!
Кёсем тоже смотрела на свою воспитанницу печально. Кажется, девочка слишком заигралась, слишком привыкла к славе и поклонению, забыв, каким тяжким трудом достаются подобные знаки внимания.
Глупая, глупая девчонка! Остается лишь молить Аллаха, чтобы тот вразумил маленькую смутьянку. Потому что иначе не Кёсем-султан покарает ее, а сама жизнь, безжалостная и беспощадная.
– Я прощу тебя, – наконец ответила Кёсем. – Но с этой минуты начну следить за тобой куда пристальней. Ибо Аллах свидетель, что помощницы, перечащие моим словам, мне не нужны.
Хадидже вздрогнула от жестоких слов, но не ответила ничего, лишь склонилась еще ниже, пряча лицо в руках.
– Встань, – велела Кёсем. – Встань и прекрати говорить и делать глупости, тогда любовь моя вечно останется с тобой.
Она говорила правду. До сих пор с благодарностью вспоминала Кёсем-султан и науку Сафие-султан, и ее строгость, и ее бесценные советы. И была уверена: там, в раю, Сафие-султан знает, что ее маленькая Махпейкер до сих пор любит женщину, заменившую ей мать. И сама Кёсем до сих пор чувствует, как рука давно уже мертвой женщины направляет ее поступки, мысли и дела.
Хадидже-вторая поднялась. Она выглядела сейчас до того несчастной, что Кёсем чуть было не поддалась чувствам, чуть было не прижала к себе глупую девчонку… Но нельзя. Чтобы по-настоящему защитить сейчас Хадидже, требуется проявить не жалость, а строгость.
Кроме того, ее молящие о пощаде глаза, ее поза, выражающая смирение и раскаяние, – все это такая же игра, как и страсть, которой Хадидже готова одарить избранника. Точнее, того из шахзаде, чьей избранницей станет она сама. Хотя это и впрямь только Аллах ведает – кто кого будет выбирать. Девочка непроста, ох, непроста… Лишь бы сама себя не погубила.
Коротко кивнув, Кёсем встала и вышла из комнаты, разумеется задержавшись затем у порога, чтобы послушать, как будут вести себя девочки. Ведь от этого зависит и дальнейшая судьба юных Хадидже, и ее собственные действия!
Послушать действительно было что. Свистящим шепотом Хадидже-первая бранила подругу, не стесняясь использовать такие эпитеты, что и базарные разносчики корзин постыдились бы произносить. И где только набралась таких выражений? Сама Кёсем от девушки никогда ничего подобного не слыхала!
Хадидже-вторая вяло отбивалась, но ее слова куда больше походили на запоздалые извинения, нежели на серьезный отпор. И, почувствовав эту слабину, Хадидже-первая разошлась не на шутку:
– Ты вообще понимаешь, насколько мы можем в этом увязнуть? Пока ты принадлежишь не шахзаде, а валиде, сиди тихо, молю тебя! Куда мы денемся, если с валиде что-то случится?
– Ты права, – неохотно отвечала Хадидже-вторая. – Я ошибалась, а ты права.
– Не я права, а госпожа Кёсем-султан!
Успокоенная, Кёсем оставила девушек. Эти разберутся и без нее!
И у нее останутся две преданные помощницы, без которых она в последнее время и впрямь как без рук.
Пока что – преданные. А там посмотрим. Не те нынче времена, чтобы загадывать наперед.
Глава 2
Время друзей
«…Опаснее всего, когда движение духов, вызывающее помутнение рассудка, становится непрерывным и бурным. Тогда оно обретает способность отворять в материи мозга все новые и новые поры, служа тем самым как бы материальным основанием бессвязных мыслей, порывистых жестов и беспрерывного словоизвержения.
Если до обострения мир больного был влажным, тяжелым и холодным, то теперь он делается сух и воспламенен, он состоит из ярости и страха одновременно; это мир недоступного чувствам, но всюду проявляющегося жара, потому он безводен и хрупок. Однако же, если будет на то воля Аллаха, всегда готов смягчиться под действием влаги и свежести».
Они обнялись сразу, у Кёсем больше не было сил выносить разлуку, но обнялись все втроем – только так и можно было на глазах подсматривающего дворца. Кёсем, Башар, Доган. По крайней мере, так все думают. Султанша, ее подруга детства, и муж этой подруги, который заодно и сам друг детства, времени невинности… Сейчас он вместе со своим братом высоко поднялся, кому надо – тот знает, о чем речь, а остальным и знать излишне. Столь большую силу набрал их клан, что вот одного из младших сыновей сегодня привезли во дворец, чтобы рос и обучался он вместе с юными шахзаде среди тех немногих, в которых наследники престола на всю жизнь приучаются видеть скорее друзей, чем слуг. Завидная доля, что и говорить.
Этого младшего сына сейчас нет здесь, хотя он во дворце. Но давно прошли времена, когда Кёсем могла, не вызывая никаких подозрений, приласкать маленького ребенка своей подруги. Теперь он уже подросток, шахзаде с ним общаться пристало, но здесь им всем быть не по чину.
Это рвет Кёсем сердце. Она чуть ли не стыдилась признаться себе в этом, но по Тургаю за время разлуки тосковала больше, чем по отцу его Карталу. Тому, который сейчас надежно скрыт под личиной своего брата-близнеца.
Пальцы Башар, тоже не размыкающей объятий, предупреждающе сказали: «Довольно!» Это было не просто прикосновение, а безмолвный язык, понятный им обеим с тех пор, как они, юные гёзде, проходили обучение у «бабушки Сафие». Кёсем с благодарностью погладила подругу по плечу.
– Хватит… – Она с трудом сумела отстраниться. – А то сейчас ревнители дворцового церемониала невесть что подумают.
Все трое вымученно улыбнулись. Они открыто стояли посреди ухоженной лужайки, даже не зашли в беседку, где были загодя постелены ковры, потому что беседка эта слишком близка к окаймляющим этот участок дворцового сада кустам, у кустов же есть уши. Глаза у них тем более есть, ну так пусть смотрят. Все равно церемониал нарушен очень сильно – но Кёсем-хасеки может себе такое позволить.
– Пусть думают что хотят, – хрипло произнес Картал. – Здоровье султана важнее.
– Это так, – вздохнула Кёсем. – Жаль, что Халиме-султан сейчас не с нами, но она вскоре подойдет.
Последовал знак в сторону солнечных часов, столбик которых высился в самом центре лужайки. Острая полоса тени как раз подползала к выложенному красным гравием знаку киблы[2].
– Сколько у нас времени? – быстро спросила Башар.
– Около получаса. Раньше не управится.
Вопрос о здоровье султана нельзя обсуждать без его матери, но так уж вышло – о, чистая случайность, правоверные! – что почтенная валиде сейчас в бане. Ее, разумеется, сразу известили, но прервать банную церемонию так просто нельзя, да и соорудить прическу, а потом облачиться в то одеяние, которое подобает матери султана, – дело долгое. А на что-то более простое Халиме не согласна, она не Кёсем.
Но раз уж привезены во дворец искуснейшие лекари, целых двое, то отчего бы им и в самом деле не приступить к осмотру больного султана сразу? Да, отчего бы? Доложат о результатах они, понятно, уже при валиде-султан. А то, что происходит сейчас, – это… да ничего, собственно, не происходит: собрались вместе друзья детства, друг другу и султану, немногие среди тех, кого он еще узнает. Стоят посреди сада, видимые со всех сторон, негромко беседуют, ожидают прихода валиде.
Они невольно снова посмотрели на росчерк тени.
– Будь во дворце иные часы, кроме солнечных… – вздохнула Башар.
– Сейчас есть.
– Знаю. Но если бы одного султана за два года до тысячелетия Хиджры не одолел приступ праведности…
Из всех них в ту пору только Картал был рожден на свет, да и то пребывал в бессмысленном младенчестве. Но никому не требовалось объяснять, что это значит.
Девятьсот девяносто восьмой год Хиджры, от рождества пророка Исы, которого христиане почитают сыном Аллаха, – тысяча пятьсот девяностый. Тридцать три года назад. Шестнадцатый год царствования султана Мурада, третьего этого имени, мужа «бабушки Сафие», – пусть ему слегка икнется сейчас, где бы он ни был, под сенью райских садов или на ложе огня, что скорее.
Были во дворце Топкапы часы с гирями и маятником, как не быть. Гяурской работы, потому что, так уж вышло, отстали правоверные от неверных в искусстве механики. Но время они показывали точно, во всяком случае, куда точнее, чем солнечные.
Ну да, кроме циферблата и стрелок имелись на них фигурки, оживавшие каждый час, даже не человеческие: павлин хвост распускал, дракон скалил пасть, птица феникс скрывалась за завесой пламени, хитроумно составленной из вырезных позолоченных фестонов. И никому это не мешало – до той поры, когда султан Мурад, третий своего имени, вдруг решил вспомнить, что по установлению Пророка (мир ему!) запрещено изображать живую тварь. Оно и вправду запрещено, но с тех времен, как Сулейман Великолепный пожелал иметь во дворце портрет роксоланки Хюррем, владычицы своего сердца, на этот запрет было принято смотреть сквозь пальцы. Иному ревнителю благочестия прямо говорили: «Ты что, блистательней самого Сулеймана?»

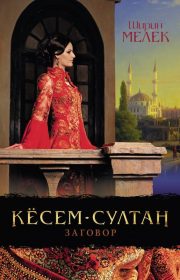
"Кёсем-султан. Заговор" отзывы
Отзывы читателей о книге "Кёсем-султан. Заговор". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Кёсем-султан. Заговор" друзьям в соцсетях.